Именно так в литературном зарубежье называли блестящего мемуариста и критика Александра Васильевича Бахраха. Профессор Юрий Иваск дал ему точную характеристику: Бахрах пишет «портреты или эскизы – меткие, живые, непритязательные. Наконец, и это редкая и драгоценная черта, он умеет цитировать поэтов, находит их самые счастливые стихи, что недоступно многим присяжным литературоведам и критикам, не говоря уже о марксистах. Есть у Бахраха вкус, есть здравый смысл».
Бахрах был одним из тех, чью судьбу переломил (но не сломал!) приход к власти большевиков. Родился в 1902 году в Киеве, юность провел в Петербурге. В мае 1920 года семья Бахрах бежала в Варшаву, затем последовал Берлин. Здесь он получил литературное крещение: писал критические статьи для русской газеты «Дни». С 1923 года обосновался в Париже, где быстро вошел в литературный круг. Стал своим в доме Ивана Алексеевича Бунина, выполнял разного рода поручения, связанные с организацией литературных вечеров, приглашением меценатов-благотворителей и пр. Журналистская деятельность давала возможность материального существования. Газета «Последние новости» (Париж) и другие русские издания с удовольствием печатали его «Литературные портреты».Во время Второй мировой войны, когда немцы оккупировали Францию, Бахрах в силу счастливой случайности оказался в Грасе, в доме Буниных. Была осень 1940 года. Ему предстояло всю войну провести на вилле «Жаннет», ежедневно общаясь с великим писателем. В 1979 году Бахрах в США опубликовал интереснейшие мемуары – «Бунин в халате. По памяти, по записям». Тираж – 500 экземпляров. На мой взгляд, это лучшее, что было написано об Иване Алексеевиче.Мы вели оживленную переписку, Бахрах честно отвечал на любые вопросы, и его письма (более сорока) – бесценный материал для изучения жизни русской художественной интеллигенции за рубежом. Умер осенью 1985 года.В 1980 году в Париже напечатана последняя книга Бахраха – «По памяти, по записям. Литературные портреты». На моем экземпляре Александр Васильевич написал: «Многоуважаемому Валентину Викторовичу Лаврову, которого заглазно полюбил за его любовь к Ивану Алексеевичу и для его коллекции… Париж. 19.02.81».Эта книга стала источником для настоящей публикации.«Непреодоленный дар»Это происходило так давно, что тогда я еще был жителем Васильевского острова и учился в гимназии. Все же отчетливо вспоминаю, что в те далекие дни я почти преклонялся перед Бальмонтом и с превеликим упорством старался раздобыть у букинистов на Литейном давно распроданные квадратные тома «скорпионовского» собрания его сочинений. Даже в самом звучании его имени – конечно, с ударением на последнем слоге – чудилась мне какая-то экзотическая неразгаданность, и я ни за что бы не поверил, что носитель такого неотмирного имени – уроженец Шуи, уездного городка, кажется, на берегах обросшей камышами Клязьмы. Каюсь, даже «чуждый чарам черный челн» казался мне высоким поэтическим достижением, и именно назойливость этих аллитераций приводила меня в восхищение. Вторя моему отцу, я частенько мурлыкал про себя строки из «Придорожных трав», которые и мне, и ему особенно полюбились:Спите, полумертвые увядшие цветы,Так и не узнавшие расцвета красоты…Всем дано безумствовать, лишь вам одним нельзя,Возле вас раскинулась заклятая стезя…Тогда я и мечтать не смел, что когда-нибудь смогу встретить и пожать руку столь чтимому мной поэту. По молодости лет я еще думал, что небожители с простыми смертными не общаются!Но прошли годы, Васильевский остров остался позади, и я успел перезнакомиться едва ли не со всеми представителями литературного зарубежья. Однако с отцом русского символизма встреча долго не имела места. Да, собственно, и в дальнейшем знакомство мое с ним было не более чем «шапочным», и радости от этого я никогда не испытал.Впрочем, странным образом сперва произошла, так сказать, «заглазная встреча». Выпустив книгу «Под новым серпом», то ли роман, то ли едва завуалированную летопись собственного детства, Бальмонт невесть почему попросил Алданова, редактировавшего тогда литературные страницы газеты, в которой я сотрудничал, чтобы для отзыва он передал книгу именно мне.Чем вызывалось такое пожелание, я тогда догадаться не мог. Однако едва ли нужно добавлять, что если мой юношеский пыл к поэзии Бальмонта давно остыл, то как-никак выраженным им пожеланием я был польщен донельзя. Ведь мне было тогда двадцать с небольшим лет! Сильно покривив душой, я нажал на все педали, чтобы повыспреннее высказаться о книге, в которой вместе с судьбой семьи Гиреевых и укреплением сознания молодого Гирика описывался уходящий быт русской провинции, расцвеченный пестрыми бальмонтовскими красками. Мне было бы сейчас, несомненно, стыдно перечитать эту рецензию, или, вернее, «лжерецензию».Но затем должно было пройти еще какое-то число лет перед тем, как у общих знакомых произошла фактическая встреча. В те годы Бальмонт еще появлялся на некоторых пышных литературных «приемах», кое-как его еще приглашали, преодолевая страх, что он вызовет какой-нибудь инцидент.Бородка его была по-прежнему рыжеватой, хоть и с заметной проседью. Был он по-прежнему представителен, хоть вместо орхидеи, изображенной на серовском его портрете, в петлице красовалась ленточка какого-то югославского ордена. Все же с грехом пополам и при известном воображении его еще можно было принять за престарелого испанского гранда, какими их изображал на своих полотнах Веласкес. Говорил он мало, только вступал в «бой», когда, по его мнению, разговор становился не в меру прозаичным и касался повседневности. О себе он неизменно продолжал говорить в третьем лице: «Поэт считает, поэт жаждет, поэт проголодался». Собственно, этим его «бальмонтовщина» и ограничивалась.Неожиданно он подошел ко мне и отвел в освещенную соседнюю комнату, остававшуюся пустой. «Поэт хочет отблагодарить вас за теплые слова о его романе, – вполголоса произнес он. – Мне хотелось, чтобы именно вы отметили его появление, потому что я оценил то, что вы написали о цветаевском «Ремесле». Ведь вы знаете, что она мой друг, а в поэзии она моя… – тут он замялся и что-то пробормотал, то ли падчерица, то ли союзница, так я и не расшифровал. – Мы связаны с ней тем, что мы оба «зовем мечтателей». Тут он процитировал старые свои стихи, к чему вообще, как я потом убедился, часто прибегал. Думая, что я разглядываю его петлицу, он добавил: «Ведь нужно быть безумцем, чтобы считать, что одуванчик лучше или хуже орхидеи». Где-то это замечание я уже раньше читал, но, конечно, не подал виду, тем более что в петличке была орденская ленточка, а это далеко не однозначно.Мы вернулись к прочим гостям, он попросил у хозяйки стакан вина, и мне показалось, что окружающая его обстановка, как и глядевшие со стен сезановские акварели, стали угнетать его. Проблески какой-то «усталой нежности», которую можно было ощутить, оставаясь с ним с глазу на глаз, сразу же потухли.Он звал меня посетить его. Этим приглашением я воспользовался, кажется, только один раз. С ним было трудно, особенно трудно, потому что постоянно приходилось мысленно себя проверять, чтобы, не дай бог, как-то его не задеть. Его ранили самые безобидные, самые нейтральные слова, которые он перетолковывал по-своему.Характерно, что некоторые излюбленные им рассказы он повторял при каждом удобном случае. Так, уже тогда, при первой встрече в «шумном кругу» его старых знакомцев он без связи с тем, что обсуждалось, ввернул – в который раз все присутствующие это слышали – рассказ о своем посещении Ясной Поляны, к тому же давным-давно им напечатанный. Соль рассказа была в том, что он вздумал читать Толстому свои стихи и начал с «Запаха солнца».Толстой не мог скрыть своего недоумения, а Бальмонт неизменно добавлял: «Лев Николаевич умело притворился, будто мои стихи ему не понравились». Говорил он это с такой убежденностью, что создавалось впечатление, будто он верит в то, что говорит, хотя, конечно, известная доля «театра для себя», вызываемая его самовлюбленностью, была налицо.В общем, я встречал его считанное число раз, но каждый раз он говорил о том, как много он трудится, главным образом по ночам, повторяя, что посмертное собрание его сочинений займет не меньше ста томов. Однажды он долго декламировал сочиненное им чуть ли не накануне, старался читать просто, без былых «фиоритур», только как-то по-особому выделяя носовые «н» и оставаясь совершенно безучастным к реакции слушателей, вернее, к ее отсутствию.Общее равнодушие к его творчеству не мешало ему обкладываться книгами, переводить и писать, писать, несмотря на то что ни читателей, ни издателей ему уже не найти. Как-то пришли ему на помощь парижские грузины и несоразмерно большим кирпичом выпустили заново им переработанный старый его перевод знаменитой поэмы Руставели.Иногда с чтением докладов ему удавалось съездить в Прибалтийские страны, в Польшу, на Балканы. Там его ценили больше, чем в ставшем ему ненавистным – якобы из-за шума – Париже. Там принимали его еще с некоторым подобием былой «помпы», с аплодисментами и вызовами. После этих поездок Бальмонт садился за переводы поэтов посещенных им стран и в возвышенном тоне, конечно стихами, описывал пейзажи Литвы или Эстонии, ограничиваясь тем, что складывал свои рукописи одна на другую в ящики письменного стола.Последние его годы были поистине мрачными – может быть, это слово недостаточно. Полунищенское существование усугублялось душевной болезнью, постоянными неполадками, происходившими у дочери. Когда-то он писал, что «я буду петь о солнце – в предсмертный час», а умер он в годы нацистской оккупации Парижа в полнейшем одиночестве, и его хоронили под проливным дождем, а за гробом, как я слышал, брели только многострадальная жена его и дочь.А между тем… как бы ни относиться к позднему Бальмонту, сколько бы неуместных насмешек ни вызывал не совладавший с «демоном поэзии», по слову его друга Брюсова, «нежный Лионель», не надо забывать, что об авторе сборников «Горящие зданья» и «Будем как Солнце» Блок писал как о «замечательном русском поэте», Осип Мандельштам говорил о его «серафической поэтике», а Цветаева – о его «непреодоленном даре» (эти цветаевские слова, да простит она мне, я и избрал для заголовка этой статьи), о его «заморскости, океанскости, райскости и неприкрепленности», уподобляя Бальмонта «пловучему острову».Не приходится спорить, что некоторые его стихотворения, даже если их немного по сравнению с общей массой созданного им, навсегда останутся неотъемлемой частью антологии, включающей вершины русской поэзии. А этого достаточно, чтобы Бальмонт не был забыт.Московская ЭгерияЯ был немало удивлен, когда прочитал в парижских газетах известие о том, что в Переделкине, привилегированном писательском поселке близ Москвы, чуть ли не в девяностолетнем возрасте скончалась долголетняя возлюбленная Маяковского Лиля Брик, которой он, вероятно, посвятил больше строк, чем Петрарка своей Лауре. Удивление мое вызывалось тем, что французская пресса отметила смерть женщины, хоть и игравшей некоторую роль в литературной московской жизни в 20-х годах, но роль закулисную, о которой читатели газет едва ли могли быть осведомлены. Собственно, «что им Гекуба»?А когда-то, «в те баснословные года», довелось и мне встречать эту самую Лилю. Познакомился я с ней на какой-то шумной и пьяной вечеринке в ателье одного известного русского художника. Много с тех пор прошло лет, но я и сейчас помню, как она – точно была центром праздника – полулежала на какой-то тахте, и когда хозяин ателье подвел меня к ней, чтобы представить, она протянула мне руку, вызывающе приближая ее к моим губам. Вероятно, в своем знаменитом салоне мадам де Рекамье протягивала подобным же жестом руку своим гостям. Но как-никак мне этот жест тогда был в диковинку, поскольку его делала Эгерия московского «салона», постоянными посетителями которого были повзрослевшие к тому времени футуристы и еще не окончательно раздавленные формалисты, то есть вся та группа, которая числилась в сотрудниках породившего столько свар «незабываемого» журнала «Леф».В той богемной компании, в которой я впервые Лилю Брик встретил, она действительно казалась своего рода королевой, выделялась среди других, выделялась манерой держаться, хоть и не парижской, но все-таки элегантностью, и еще – непререкаемостью суждений и сознанием своей «особности», которая передавалась собеседнику, хотя, строго говоря, это ее свойство надо было принимать на веру. Ведь почти никакого литературного наследства она после себя не оставила.А все же не казалось удивительным, что находившийся рядом Маяковский, во всяком сборище стремившийся главенствовать, тут как-то съеживался и если и отходил от Лили, то только для того, чтобы принести ей бутерброд или наполнить ее рюмку. Между тем тут же сидел и ее законный супруг, Осип Брик, человек острого ума и большой эрудиции, имевший свои идеи на «звуковые повторы», но человек с неясной репутацией: в Москве говорилось, что его следует остерегаться. Кто знает? Он едва открывал рот, вынужденно улыбался и не стеснялся показать, что презирает происходившую вокруг него сутолоку.Я глазел на эту необычную тройку и был не слишком удивлен, прочитав много-много позже признание самой Лили. «Брик был моим первым мужем. Обвенчалась я с ним в 1912 году, а когда я сказала ему о том, что Маяковский и я полюбили друг друга, все мы решили не расставаться, – писала она. – Маяковский и Брик были уже тогда близкими друзьями, связанными близостью идейных интересов и литературной работой. Так и случилось, что мы прожили нашу жизнь и духовно, и большей частью территориально вместе».«Территориально вместе…» Как-никак это было не вполне обычным «разрешением проблемы» даже на фоне развалившегося московского быта 20-х годов. Но как будто никто этой необычности не чувствовал, и все шло «привычной линией», и если только Маяковский бывал от Лили отъединен, он писал ей сентиментальные письма, в обращениях употребляя эпитеты вроде «ослепительный», «изумительный», «зверски милый Лилик»; словом, такие же эпитеты встречаются в письмах всех влюбленных, адресованных своим избранницам. Подписывал он эти письма неизменно «Щен», обязательно пририсовывая к подписи ловко сделанный рисуночек, изображавший щенка.Часть этих писем была опубликована в единственном из вышедших томов академического «Литературного наследства», посвященных Маяковскому и, как говорили, вскоре после его появления изъятых из продажи.Советские Катоны решили, что читательской массе не следует знакомиться со «слабостями» стального поэта революции, якобы начавшего свою революционную активность чуть ли не в двенадцатилетнем возрасте. Его героическому облику не к лицу слюнявые обращения к своей Эгерии. Памятник на московской площади его имени не вязался с письмами, начинающимися словами «милый кашалотик» и заканчивающимися четырнадцатизначным числом поцелуев. Железная логика марксизма такого стерпеть не могла!Вскоре после описанной вечеринки мне случилось пообедать с Лилей и ее сестрой, Эльзой Триоле, Маяковским, Пуни, Виктором Шкловским, был ли еще кто-то, не помню. Разговор за обедом шел о конструктивизме, о том, что Маяковский именовал тогда «деэстетизацией производственных искусств», и затем – эта тема еще тогда не успела остыть – о незадолго до того появившемся редактируемом Маяковским журнале «Леф», в первом номере которого была напечатана его поэма (без малого в 2000 строк) «Про это».Основная тема поэмы, которая, как он писал, «остальные оттерла и одна безраздельно стала близка. – …Эта тема день истемнила в темень, колотись – велела – строчками лбов. Имя этой теме…» – и тут в печатном тексте застенчивый поэт ставил ряд точек, предоставляя прозорливому читателю расшифровать пропущенное слово!За обедом – не без оттенка скорби – говорилось о том, что поэма не пришлась по вкусу московской критике: напостовцы шипели, что «это сорняк, который надо беспощадно выполоть», другие ругали поэта за создание индивидуалистической поэмы, пронизанной ледяным чувством одиночества, и – что того хуже – сотрудник «Лефа» и бывший единомышленник Чужак увидел в «Про это» измену платформе журнала, учуял не выход, а безвыходность (что, вероятно, только показывало его чутье). При этом кто-то из присутствующих указал, что обложка первого издания поэмы была вызывающей и только подлила масла в огонь. На «преступной» обложке красовался фотомонтаж Родченки, изображавший ту, которой поэма была посвящена, которая была темой поэмы. Это был сильно ретушированный снимок Лили с пребольшими глазами, наведенными на зрителя и почти способными его загипнотизировать, с чуть театральной улыбкой, несомненно привлекающей.Друзья Маяковского волновались, напоминали о тех подвохах, от которых не застрахован ни один советский писатель, об интригах и «подножках», которых не чуждаются даже иные из литературных друзей.Сам Маяковский был спокойнее всех, ссылался на то, что горсточка греков отразила под Фермопилами все персидские полчища, а когда кто-то начал настаивать на том, что Маяковскому надо перейти в контрнаступление и поставить все точки над «i», он только остроумно отшутился, заявив, что это невозможно, потому что десятеричного i больше не существует.Но все же Лиля была прозорливее своего поэта, и можно было по нескольким ее замечаниям почувствовать, что она отдает себе отчет в том, что дело не ограничивается кислыми высказываниями критиков и звезда Маяковского, отчасти по нелитературным причинам, начинает закатываться. Едва ли он сам это сознавал, даже если его бравурность во многом была показной.Прошло после этого несколько лет. Маяковский изредка наезжал в Париж, отдельно от него наезжала и Лиля навестить сестру. Но тут случилось вполне непредвиденное: в одну из заграничных поездок Маяковский нежданно-негаданно влюбился, и по-серьезному, – страшно подумать! – в одну милую эмигрантку. Удивительно ли, что когда он снова захотел посетить привлекательный для него по-новому Париж, ему в разрешении на выезд из Советского Союза категорически отказали? Ходили упорные слухи, что именно Лиля и ее муж особенно ретиво охраняли чистоту революционных риз Маяковского и содействовали тому, что певца революции и «Моссельпрома» больше за границу не выпустили.Именно это запрещение, как и «охлаждение» отношений с Лилей, можно думать, толкнули его на трагическое решение, и хотя в несколько напыщенном предсмертном письме он взывал: «Лиля – люби меня», а строчкой ниже, обращаясь к правительству, указывал: «моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская» – такое сопоставление имен едва ли было по душе Лиле. Оттого об актрисе Полонской мало что известно, в комментариях к текстам Маяковского имя ее почти никогда не упоминается (не зря же Лиля руководила редактированием первого собрания сочинений Маяковского).Так и вышло – и в этом, конечно, немалая доля ответственности лежит на Лиле, – тот, кому мерещилось триумфальное шествие по жизни, оказался побежденным чуть ли не во всех планах, кто ниспровергал обывательщину – был сражен самой «мещанской», самой банальной из всех возможных жизненных ситуаций. Если пользоваться его терминологией, обыденщина вторглась в щели быта. А она… его Эгерия – «Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть – как девочка мячиком».P. S. От одного моего приятеля, который в те дни побывал в Москве, я узнал, что Лиля Брик сама ускорила свою смерть. Она поскользнулась, при падении сломала бедро и не выдержала мучений. Если распространившиеся по Москве слухи достоверны (а у меня нет никаких оснований в них сомневаться), то действительно надо иметь отчаянный характер, чтобы в таком преклонном возрасте прибегнуть к помощи яда. В этом мрачно-трагическом поступке сказывается характер той, которая претендовала быть Эгерией Маяковского.





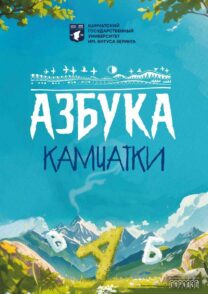

 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии