Что значит писать прозу о стихах? Быть может, предоставлять заключенному в стихах духу поле для уточнений и прояснений, открыть волшебную лампу, из которой появляется джинн поэзии. А быть может, поставить для равновесия равнозначный поэтическому ответ на вопрос «Что такое жизнь?». Ведь в стихах часто утверждается, что жизнь всего лишь миг, тогда как в прозе, в том числе критической, утверждается традиция, ищется контекст, связи продолжают быть основополагающими, даже когда в стихотворении говорится о разлуке. И тогда можно сказать, что в «никогда» чувствуется «всегда».
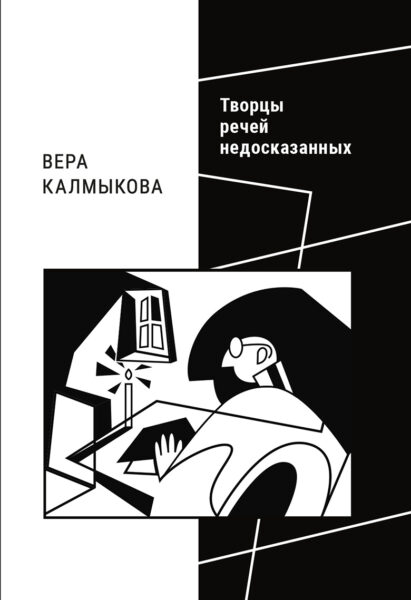
В книге очерков (авторское обозначение) Веры Калмыковой о современных поэтах «Творцы речей недосказанных» есть и прозаическое «всегда», и поэтическое «никогда», делающие недосказанность, заявленную в названии, творческой. Автор пишет о себе в предисловии: «…я сама поэт и филолог и читаю их (поэтов), чтобы учиться. Ведь это высшая цель поэта – учиться. Потому что раз и навсегда научиться создавать художественный образ нельзя. Случайная удача или даже серия удач ничего не гарантирует». Что ж, подкупающая честность. Читатель видит: автор знает, о чем говорит. Учась, человек вырабатывает критерии оценки. И вот чуть далее звучит еще одно признание: «…мне хочется высоким слогом поговорить о высокой поэзии. В каком-то смысле – вернуть в русскую поэзию или хотя бы начать возвращать в меру своих слабых сил критерии оценки произведения по самому большому, гамбургскому, счету». Но почему тогда «в каком-то смысле»? Кажется, автор боится своих амбиций. И балансирует на грани дневниковых заметок и попыток этот гамбургский счет ввести в оборот, что, замечу, достаточно увлекательно. Калмыкова с самого начала говорит о разбираемых поэтах «мои поэты», а они оказываются весьма различными – от Михаила Айзенберга до Вадима Месяца, от Марины Кудимовой и Ефима Бершина до Андрея Таврова.
Очень захватывающий эксперимент – учиться у разных учителей, понимая, что из пройденного отзывается в тебе. Но чтобы понять, что отзывается, автору нужно представить читателю контекст эпохи, манифесты искателей новых форм. Так, в очерке о стихах Михаила Айзенберга возникает пространная цитата из самого Айзенберга, из его статьи в альманахе 1991 года «Личное дело», где речь идет о выходе из стихов, отказе пестовать уже достигнутое традицией на фоне ощущения инаковости поэтического языка, его несводимости к другим средствам выражения. Айзенберг для Калмыковой поэт, примиряющий волю к надмирности и величию модерна (Калмыкова поминает в связи с этим Серебряный век) с заботой о малом. Она приводит строки, в которых поэт откликается на смерть домашнего питомца:
Он в картонной домовине,
не наследник, не жених.
Нет теперь его в помине.
Нас оставили одних.
Приводит, усматривая в стихотворении признаки народного плача, говоря о звукописи и использовании архаичного «домовина». Вообще, как можно заметить по ходу чтения, Калмыковой чрезвычайно важна связь неких подземных соков, питающих культуру, с изящной словесностью. Пожалуй, чтобы ее нащупать, в предисловии и предлагается формулировка темы как переживания. Следуя авторской логике, переживать удается нечто, что потом разделяется разумом на душу и тело, высокое и низкое. Но вот еще предлагаемый читателю книги Айзенберг:
Мне не хватает рук
к целому возвести
век свой и опыт свой
Чтобы еще расти
надо побыть травой
Парадоксальное единство, слушающий сам себя рост. Калмыкова видит здесь и единство устойчивых выражений с внезапными для читателя открытиями. Может, все слова непредсказуемы, как сама жизнь? Недаром автор интересуется биографиями своих героев, посвящает им значительную часть книги. Она явно под впечатлением от событий, произошедших с Ефимом Бершиным – еще одним ее героем, освещавшим как журналист приднестровский конфликт, – цитирует его интервью, резюмируя: «…противник Бершина – не та или иная враждующая сторона. Его главный враг – война как таковая». Вспоминает Максимилиана Волошина, занявшего позицию поэта над схваткой в Гражданской войне, говоря, что Бершин не над, а между. Приведенные строки тоже говорят об этом, они словно разговор с собой в купе поезда:
Россия.
Дождь.
Начало сентября.
Безденежье.
Москва несется мимо.
Калмыковой явно импонирует обрывочность письма, но и, кроме того, странное чувство уюта в неизвестности, куда мы держим путь. И в поисках патриотической поэзии она идет на звук двух голосов – женского и мужского – Веры Кузьминой и Алексея Ивантера, в творчестве которых русское предстает скрывшейся, как и положено, до поры до времени силой, способом жить между фантазией и попытками устанавливать бытовые связи. Стихотворение Веры Кузьминой о кукле девочки-инвалида – тому подтверждение:
А у Ленки – кукла ростом с нее,
Домик розовый с картонной трубой –
На окошке надпись – «куклам внаем»,
На крылечке куклин зонт голубой.
Собственно, уже кукла ростом с человека пробуждает странную смесь восторга, точно замеченного Калмыковой, и ужаса, с какими мы смотрим как на историю отдельной личности, так и на историю всего человечества (так восхищаешься и одновременно жалеешь людей, живущих в одних обстоятельствах, в одной эпохе). Между ними возникает надежда на потенциал той самой недосказанности. Эту надежду книга Веры Калмыковой дает.
Вера Калмыкова. Творцы речей недосказанных: о поэтах рубежа ХХ-ХХІ веков. – М. : Русский импульс, 2022. – 240 с.







 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии