В поэзию, как и в жизнь, приходят поколениями. А не только поодиночке. На наших глазах, к нашей великой скорби, уходит нашумевшее на стадионах и на школьных сценах поколение Рождественского, Вознесенского, Ахмадулиной – дай Бог здоровья Евгению Евтушенко.
…Помню мурашки по телу, когда моя подруга, одноклассница по запорожской школе №31, Ольга Ратникова читала в актовом зале «Письмо Франсуазе Саган» Роберта Рождественского в связи с событиями в Алжире -Пишу Вам по праву ровесника, уважаемая Франсуаза.Быть может, вздохнув невесело, письмо Вы поймете не сразу…И дальше:…Над высушенной гвоздикой прошебуршит гром,И на песок тихий тихо вытечет кровь.Но будет грохотом танков в землюВдавлена фраза.И все оборвется…Так-то, уважаемая Франсуаза.Мы, правоверные внуки оттепели, без раздумий разделяли с Рождественским этот снисходительный, поучительный тон. До наших собственных танков в Праге оставалось еще года полтора.Мы и в Москву-то рванули в 1968 году на подмогу тем, кто у памятников читал свои стихи. Но встретили уже Москву притихшую, без всяких стихов. Застойную. Но память о тех стихах еще со школы жива. Как и память о том, что все они были влюблены в свою Беллу. Это строка из юного Евтушенко: «Этот вальс, он твой, Белла!».А до них так и не успели стать великими Павел Коган, Михаил Кульчицкий и их сотоварищи по Литинституту (недооцененное, на мой взгляд, поколение, павшее на полях Великой Отечественной). Еще до войны они предчувствовали это. Михаил Кульчицкий:Нам лечь, где лечь. И уж не встать, где лечь.И задохнувшись «Интернационалом»,Упасть лицом на высохшие травыИ уж не встать. И не попасть в анналы,И даже близким славы не сыскать.Их стихи мы читали уже в молодости, на коммунарских сборах. А вот что же она, какая сегодняшняя поэзия? Не претендуя на полноту охвата, пишу сугубо субъективные, нажитые и прожитые заметки о близких мне авторах.«Ты жива, моя зеленая трава»Это строчка из стихов подростка Жени Бунимовича – одного из многих юных поэтов, которых растил при «Алом парусе» прежней «Комсомолки» Юра Щекочихин (царствие ему небесное!). Все стихотворение звучит так:Начало весны.И снова белые погоды,И солнца луч не рыжеват,И небо рыночной работыПереоделось в кружева,Бессмысленный ребячий лепет,Возводят крепость, бабу лепят…Атас! – старьевщику с мешкомПопали по уху снежком…Все смолкло… Лишь один с лопатойЧетырехлетний человекУсердно ковыряет снегИ, нос наморщив конопатый,Тихонько шепчет:«Ты жива, моя зеленая трава…»1972 г.Это был уникальный «инкубатор» под водительством Александра Аронова. Он, как и Вадик Черняк, тоже бард и журналист, работал в «Московском комсомольце», где до «АП» еще школьником работал и Юрка Щекоч.«Группа, кружок – это есть непременное условие становления человека… А оформляется это все именно в условиях коммуникации – в кружке, когда есть соумышленники и коммуниканты», – цитирует нашего великого философа Щедровицкого в своей недавней книге «Картография русской поэзии. Ровесники» Андрей Русаков. В ней он, молодой исследователь педагогики и культуры из Санкт-Петербурга, как раз применяет поколенческий анализ отечественной поэзии.У меня же есть особое преимущество: видеть всех трех обозреваемых поэтов еще и сквозь их биографию, начиная с отрочества, Женя Бунимович, Олег Хлебников, Андрюша Чернов – птенцы гнезда Петровича. Юрия Петровича Щекочихина.Сам Юрка не писал стихов и песен, только с упоением их исполнял. Но вокруг него в комнатке «АП» царила такая поэтическая атмосфера, что стихи сами собой являлись.И вот прожиты десятилетия, выпущены книги – много книг, переводы на многих языках мира. Главное – они состоялись как поэты, как общественные деятели, исследователи культуры. Гора их книг на моем письменном столе…Ни Щекоча, ни Аронова давно уже нет на земле.Из недавнего – Олег Хлебников:Все время чувство,Что есть постаршеИ знают то, чего не знают сами.Но все уходяти молча «Станьте!»Твердят тебе холодными устами.Но для меня они по-прежнему подростки, и звучат по памяти их юношеские стихи, впервые публиковавшиеся в «АП». Тот же Хлебников:КолоколНад землею мороз.Над землею тяжелое облакоНегативом зари,Отпожарищным дымом ползет.Человек без ногиВ тулупе, похожем на колокол,Смотрит за горизонтИ идет,Будто колокол бьет…Ближе всех мне был Андрюша Чернов, мы дружили втроем: он, я и Щекоч. Вот отрывок из его юношеских стихов:Старинная гравюра…В морозы здесь душно – течет по фасадам роса,А в землетрясенья дома дымоходами трутся.В проулке хромом по карнизу от шпор полоса.А в башне горбатой со стражником не разминуться.И только двоим из высоких напротив оконНе тесно в том граде, не душно в том смраде воловьем.Она протянула над городом руки, и онИх держит всю ночь над дымящимся средневековьем.Минует почти полвека, а той же чистотой и целомудрием звучат строки, открывающие недавний его сборник «Глухая исповедь» («Синтаксис», Париж, 2014 г).Вместе – ты да я, да мы с тобою,Там, где нет ни моря, ни земли,По ничейной полосе прибоя,Рук не выпуская, побрели.И не рыбы, но еще не птицы,Вместе – мы с тобою, ты да я,Не умея перевоплотиться,Длим пробег земного бытия.Что с телами будет? Что с душою?С тютчевской споткнувшейся строкой?Только ты да я, да мы с тобою,Да моя рука с твоей рукой.Разве только лунною дорожкойПовернем – да инда побредем! -За промерзлой ладожской морошкойВместе – ты да я, да мы вдвоем.Поэтика общая, типажи разныеТак сказал о них троих наш общий друг и их ровесник писатель и бард Борис Минаев.О типажах: Бунимовича можно назвать «поэт в галстуке» – учитель математики, много лет был депутатом Мосгордумы, сейчас уполномоченный по правам ребенка в городе Москве. Хлебников – «поэт в газете», много лет – заместитель главного редактора «Новой газеты». Чернов – возможно, «поэт в истории». Его увлечение историей связано с его родословной, он прямой потомок декабриста Чернова, убитого на дуэли незадолго до восстания на Сенатской, его похороны описаны Герценом в «Былом и думах». Андрей точно установил могилы декабристов, создал свой перевод «Слова о полку Игореве», на всю жизнь увлекся древнерусской историей.В его стихах много и героев, соединенных с современностью. Вообще многолюдство – общее для них в их поэтике. Особенно это характерно для Олега Хлебникова – от идиллических образов родного Ижевска, откуда он родом, до пронзительного плача (иначе не скажешь) по погибшим коллегам из «Новой газеты».Многолюдность – и удивительное чувство соразмерности себя с людьми, некий чеховски точный баланс себя и окружающих, при котором, как у Визбора, – «человек не меньше человека, в этой теме важен верный тон». Полное отсутствие фанаберии, даже просто тщеславия, «громкости».Был такой Евгений БунимовичПолторы натуры, мрамор, бронза.Ощущал предутреннюю горечь,Устранял немедикаментозно.Бунимович был такой Евгений,Хрен с горы синайской в поле чистом.Не любил писать стихотворений,Да и получалось неказисто.С этим и появится на страшном,С этим и предстанет перед высшим.Буни, говорите, -мович, как же,Был такой, да весь куда-то вышел.А Хлебников выразил эту позицию неимоверно точно:На земле прожив полвека,Многого добился:Рост не ниже человека,Вымылся, побрился…Как меня уверенно называют отцомТе, кого бы яне желал в сыновья!Видимо, вышел походкой, лицомВ поколение отцовпрелестного жлобья….Наверное, я игру свою недоиграл,Коль к старости канаюв прикиде секонд-хенд.А сыновья такие,что сир я и наг,И жалок рядом с ними,как вечный студент.Но теплится надеждана внуков.А что еще умеют вымечтать себе старики?И греет меня кожаное пальтоС чьего-то плеча, из Божьей руки.С внуками – да пусть им повезет. Но главное – желаю моим героям обрастать учениками. У них было благодатное, полное великих имен ученичество. Желаю им теперь столь же благодатного Учительства.





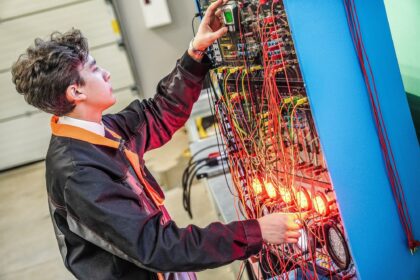

 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии