В ноябре прошлого года была представлена аудиоверсия новой книги Фредерика Бегбедера в русской озвучке; произведение «Человек, который плакал от смеха» стало продолжением книг писателя «99 франков» и «Идеаль». Его озвучил Сергей Стиллавин – один из самых известных российских радио- и телеведущих. Вместе с трагически погибшим в 2008 году Геннадием Бачинским он вел программы на радиостанциях «Модерн», «Маяк», «Русское радио», «Максимум», телешоу на каналах ТНТ и MTV. Сегодняшняя наша беседа – о профессии журналиста в современном мире, о радио, музыке и, конечно, о проблемах образования.

– Сергей, в 2010 году вы отрицательно отозвались в интервью об уровне школьного образования, о том, что существует система дифференциации: в одних, престижных классах, учатся вундеркинды, а в других дети не осваивают элементарную грамотность. Как вы думаете, где корни этой проблемы? Изменилась ли сейчас ситуация или осталась прежней?
– Ну вот возьмем систему тестирования в школах. Часто она заключается лишь в угадывании правильного ответа на вопрос из пяти вариантов. Русский язык оказался совсем в загоне, но вот при отборе кандидатов на вакансии работодатели выстраивают анкетирование таким образом, чтобы избавить себя от безграмотных людей. Я убежден – если ты безграмотно пишешь, ты безграмотно мыслишь. Человек, который пишет с ошибками, похож на человека, у которого по дорогой нейлоновой рубашке ползёт гнида. Более того: у такого человека вообще нет права рассуждать на серьёзные темы. Это в самом гнусном виде обыватель, который не только не заботится о своём культурном уровне, но не достоин того, чтобы кто-то заботился о его культурном окружении. Потому что всё-таки писать без ошибок – это азы школы, это не высшая математика, не квантовая физика. И если человек не смог освоить даже этого, то в нашем обществе, в котором давно провозглашены равные возможности, он сразу ставит себя ниже остальных. Если, конечно, он не представляет собой большинство – я всё-таки надеюсь, что это не так…
– Вы говорили, что, когда пришли в профессию в 1993 году, журналистика вам ужасно нравилась: вы изучали, как редактируются ваши материалы, бегали по заданиям… Никогда не возникало ощущения, что этот подённый труд – то, от чего хотелось бы избавиться? Или, может, вы согласны с высказыванием Лидии Гинзбург: «Если кто-то говорит тебе, что он выше всего этого, – подумай, не ниже ли он всего этого»?
– Ну, вы знаете, я сейчас не могу себя назвать журналистом – хотя у меня есть журналистские навыки. Я считаю себя публицистом. Как сказал один мой начальник в 90-е годы, журналист – это человек, который ничего не знает, но очень хочет узнать. Я учился на филфаке, а не на журфаке, и не знаю кодекса поведения журналистов, но для меня всегда было негласным правилом, например, если я беру интервью – согласовать его с тем человеком, с которым разговаривал. К сожалению, моя убеждённость в том, что именно так надо поступать, абсолютно не очевидна для других. И люди занимаются тем, что вырывают из контекста какие-то фразы, дописывают какую-то отсебятину, дают материалам совершенно безумные заголовки, не соответствующие тексту… Увы, журналистика находится в плачевном состоянии, она перестала быть уважаемой профессией. По тем причинам, что я перечислил, и из-за множества коммерческих материалов, которые выдаются за редакторские – я имею в виду рекламу. Те времена, когда журналист считался уважаемым человеком – ну, как корреспонденты «Взгляда», молодые горячие правдолюбцы, – как нам казалось тогда, – давно прошли. Об этом свидетельствуют тиражи изданий и количество подписчиков на СМИ.
Лично я считаю, что профессия журналиста очень важна. Между тем говорят, что журналист должен заниматься расследованиями; что есть какие-то независимые журналисты… Но я понимаю, как устроена эта профессия: человек в первую очередь хочет есть. И если он называет себя независимым журналистом, то источник его доходов не так очевиден, как у штатного сотрудника какой-нибудь редакции. Однако не это самое главное. Мне кажется, что журналистика – это профессия, которая в первую очередь ориентируется на человека, любящего и умеющего слушать. А мы живём, к сожалению, в то время, когда каждый хочет что-то сказать, но не услышать другого. Ещё эту профессию, к сожалению, очень сильно подтачивает институт блогерства.
– Вы правы, сейчас больше слушают блогеров, а не профессиональных журналистов.
– Профессия вдруг стала доступна всем. Но падение было взаимным: качество журналистики падало по описанным мной причинам, а что касается блогеров – хотя среди них встречаются достаточно интересные люди, это безумие, когда в профессию может прийти любой человек. То есть фактически журналистика превратилась в нечто вроде такси, потому что в такси может прийти любой, у кого есть водительское удостоверение и нет проблем со здоровьем. Вход в профессию стоит ноль. Но для того, чтобы быть читаемым, недостаточно работать со словом внутри своей головы: нужно обладать харизмой, уметь ярко интерпретировать это слово и артистично, может быть, иногда провокационно, – доносить его. И в этом смысле журналистам придётся – если они хотят оставаться в профессии – конкурировать с блогерами. Но блогерство не уничтожает журналистику: многие люди – например, разнообразные изгои из СМИ – создают собственные блоги. Если человеку не дают официальной площадки, он заводит свой Youtube-канал. Однако для меня главный вопрос: кто финансирует эти структуры? Какой-нибудь 18-летний дурачок, который гоняет на тачке и покупает кроссовки за семь тысяч рублей, – он более понятен и честен, чем 50-летний, который рассуждает на политические темы. При этом я не понимаю, кто его финансирует.
– Вроде бы доходы идут за счёт рекламы. Или за счёт каких-то донатов.
– Донаты – конечно, удобная штука, но тут могут возникнуть сложности с налоговой инспекцией. Это как с салонами красоты: все в России понимают, что они – средство отмывания денег, и никто не знает, сколько блондинок пришлось перекрасить в брюнеток. Для журналиста очень важна гарантия честности того материала, который ты подаёшь. А поскольку в 90-е официальная журналистика очень замаралась платными материалами, в том числе разгромными политическими, то её цена стала падать в глазах людей. Я бы сказал так: журналистике нужно возвращать доверие народа, но при этом нужно установить новые правила. Тех правил, которые были прежде, эта профессия, к сожалению, лишилась.
– В одном интервью вы признались, что интроверт, не любите шумные тусовки. А как это сочетается с работой ведущего, ведь от него вроде бы требуется быть зажигательным и компанейским?
– Вы знаете, тут никакого парадокса нет. Абсолютное большинство людей, зажигательных в кадре и на сцене, в обычной жизни совершенно спокойные и нормальные. Даже ультранормальные. За примерами далеко ходить не надо: я не хочу себя ни с кем сравнивать, но можно вспомнить Георгия Вицина или других актёров. Мы все знаем, что в быту есть такие люди: они на семейных праздниках играют роль тамады…
– Ну да, «человек-праздник»…
– Но у всех свой формат: например, есть формат домашней вечеринки, есть формат работы перед микрофоном и камерой, есть – работы на сцене… Про себя я действительно могу сказать, что я интроверт: но я понимаю, что как только я выхожу из своего публичного пространства, я выхожу на работу. Даже если ты просто идёшь в магазин, будучи артистом, – с тобой хотят сфотографироваться, пожать тебе руку, обменяться парой слов… Ты должен улыбнуться. И, мне кажется, это должно стать правилом для любого публичного человека – понимать, что как только за спиной квартиры захлопнется дверь, ты оказываешься на работе. Поскольку я знаю эту сферу изнутри, мне немного жаль доверчивых людей, принимающих амплуа за реальность. Люди думают, что человек всё время один и тот же. Просто чтобы отдавать энергию перед микрофоном – её сначала надо накопить. А накапливается энергия лучше всего в тишине.
Я очень люблю слушать: поскольку я начинал как пишущий человек, я очень любил интервью – и многие из них даже брал без диктофона, переписывая текст очень близко к оригиналу. Некоторые могут подумать, что я болтлив в эфирах, но это происходит только по одной причине: часто разговор буксует. Не всегда твой собеседник – такой же энергичный, как ты сам, такой же интересный, динамичный для слушателей, как весь контент программы. Поэтому тебе часто приходится влезать, чтобы немного его подшпоривать. Когда собеседник сам интересный – я, конечно, затыкаюсь.
– Вы упомянули блогерство, но ведь и сами не чужды ему. Уже 10 лет вы с Рустамом Вахитовым ведёте Youtube-канал «Большой тест-драйв». Туда вы приглашаете звёзд и общаетесь со случайными прохожими на улице. Каких основных правил вы придерживаетесь в разговорах со звёздами об автомобилях? Отличаются ли эти беседы от прочих интервью?
– Звёзды – такие же люди, как и все остальные. Я и себя не позиционирую как небожителя, и никого из смертных не могу назвать человеком, который чем-то принципиально отличается от остальных. Вот в этом году Нобелевскую премию вручили за генную манипуляцию, так что через некоторое время возможно появление так называемых «служебных» людей – с «обрезанными» функциями. Тогда, конечно, можно будет говорить, что есть люди привилегированные, а есть обычные. Но я всё-таки советский человек – а в Советском Союзе декларировалось равенство. Что же касается автомобиля – это всего лишь маленький штрих к портрету известного человека. Как у женщины сумка и туфли…
– То есть это всё-таки выражение индивидуальности?
– Для меня это выражение личности. Её характер, вкус, статус. Я могу по этим вещам, в принципе, людей читать. Тот, кто приезжает на большой чёрной машине, и тот, кто приезжает на маленькой красной, – это всё-таки разные люди, согласитесь.
– На маленьких красных, наверное, всё-таки больше ездят женщины…
– Ну, мне как человеку, который давно машины тестирует, – вообще всё равно. А люди, которые выбирают машину одну на несколько лет, к этому относятся более внимательно.
Но я не об этом – а о том, что здесь машина является фоном для интервью. Человек находится в комфортной для него среде, в своём автомобиле: он не к тебе в студию приходит, где какие-то лампочки светятся, какие-то люди посторонние… Он впускает в свою знакомую атмосферу всего лишь пару посторонних – и в расслабленном виде говорит о жизни: вот в чём суть этого интервью.
– Каких вопросов вы никогда не зададите своему собеседнику?
– Ну, например, я никогда не спрошу его ни о чем неприличном – ни на радио, ни в обычной жизни. Поскольку я считаю себя человеком тактичным, да и, в общем-то, по морде получить не хочется…
– А кроме тактичности? Что обязательно для человека, занимающегося радиожурналистикой?
– Моё убеждение – человек, который приходит на радио, должен уметь писать. Потому что если он работает на радио и пишет плохо, – это просто трепач. Тот, кто способен оперативно написать качественный текст – без длительной редактуры, без вымучивания, а просто сел и написал, – он понимает структуру разговора и может говорить с использованием деепричастных оборотов, а не просто – «привет-пока».
Что касается именно радио – тут многое зависит от психологического комфорта. Кстати, если сравнивать радио и телевидение, то с последним ещё сложнее. Потому что для «эксгибиционистов», я имею в виду людей, которые любят себя показывать, очень важно, чтобы они хорошо выглядели. И некоторые из них настолько парятся по поводу того, как они выглядят, что начинают казаться роботами. Внешность для них важнее, чем смысл разговора. На радио же остаётся только голос – поэтому так важна искренность. И когда ко мне приходят разные люди, я вижу по манере речи: вот здесь мой собеседник лжёт, здесь чего-то недоговаривает, а здесь говорит правду.
На радио также имеет значение хронометраж. Когда мы говорим о тех же блогерах или подкастерах, они, во-первых, не скованы лицензией – у радиостанции могут, например, отобрать лицензию за ненормативную лексику. Во-вторых, они не скованы количеством времени – а тебе нужно впихнуть в живой эфир весь разговор, монолог или диалог, который умещается в конкретное время: и либо растягивать его, либо, наоборот, уплотнять, чтобы больше влезло смысла. То есть это очень индивидуальная работа, которая ведётся в прямом эфире и подразумевает, что ты вовлечён в неё на сто процентов и постоянно контролируешь все эти вещи: и хронометраж, и состояние гостя, и внимание публики. Ты понимаешь, что сказано, а что ещё не сказано. К примеру, что надо ещё пошутить: юмор – не в смысле гоготанья, а в смысле какой-то ироничной ремарки, – должен оживить интерес к беседе, заставить публику не заскучать.
Мне уже несколько раз предлагали: «Сергей, давайте сделаем с вами школу радиоведущего». Но я понимаю, что это всё надо систематизировать. А я работаю интуитивно.
– Не каждый, наверное, сможет научиться этой профессии, даже если отправится в школу радиоведущих?
– Поскольку я гетеросексуал, то привожу в пример женщину. Вот бывает, что у неё длинные ноги, густые ресницы – а энергетики, знаете, нет. А иногда бывает женщина попроще – но что-то в ней берёт, понимаете? Есть тут всё-таки какая-то зараза-магия. Я не говорю, что я в этом смысле человек уникальный: есть замечательные ведущие. Нас немало. Но есть какие-то вещи, данные от природы: развить их в человеке с помощью технологической подготовки можно, но заронить нельзя.
– Расскажите о сложностях работы в прямом эфире.
– Прямой эфир – это очень большая ответственность. Тут нельзя переделать, переговорить. Ты сразу должен сделать хорошо. И поэтому человеку, который приходит в эту профессию с улицы, некогда учиться: невозможно заранее натаскаться на чём-то, приобрести опыт допроизводственной практики, условно говоря. Она нарабатывается в эфире – на каких-то небольших должностях: нельзя сразу прийти на радио и стать ведущим многочасовой программы или какого-то ответственного сегмента. Нужно избегать подростковой уверенности в том, что с нуля получится всё.
Моя карьера в этом смысле сложилась удачно: я был ведущим коротких программ, так называемых пятиминуток, и приезжал на радио из-за этих пяти минут четыре раза в неделю. Потом мне доверили делать передачу. У нас была очень свободолюбивая станция – «Радио Модерн». И так сложились обстоятельства, что мне повезло учиться у людей, которые на меня не давили, не говорили, что я придурок и так далее, – хотя я и ошибался, и был придурком. Но мне позволялось расслабиться, чтобы я не напрягался от ответственности: от миссии, что я в прямом эфире радиостанции, которая вещает на много городов. Так что снятие психологического зажима – вещь более-менее понятная, а что касается нюансов более тонких – ну, это авторская всё-таки работа. Уверен, есть люди, которые к этому способны и они могли бы научиться уже технологическим вещам.
– В августе прошлого года отметило 25-летие «Русское Радио» – важная страница вашей с Геннадием Бачинским профессиональной биографии. Следите ли вы сейчас за деятельностью этой радиостанции? Если да, в какую сторону, на ваш взгляд, она изменилась?
– Я должен вам честно сказать: с тех пор, как я пришёл на радио, я совсем перестал слушать музыкальные радиостанции. Но и до этого я их особенно не слушал. В этом смысле я косный советский человек: люблю, когда музыка идёт в какой-то логической последовательности. А эфиры музыкальных радиостанций строятся по принципу: «сейчас грустное», потом «сейчас весёлое», потом «опять грустное»… Она не систематизирована, эта музыка. А если ещё учесть, что там реклама и новости, то меня это вообще не интересует. Я не вырос в культуре музыкальных радиостанций. Когда появилась «Европа Плюс» – мне было уже восемнадцать лет, тогда я впервые услышал, что такое коммерческое радиовещание. Я мыслю альбомно.
Что до «Русского Радио» – то я считаю, что это очень успешный – в первую очередь коммерчески – проект. Потому что его отцы-основатели рано поняли, что в нашей стране люди хотят слушать музыку на родном языке. И что огромное количество людей в нашей стране воспринимают песни не только ритмично и музыкально, но и смыслово. Ведь в западной эстраде, начиная с 80-х годов, текст воспринимается просто как речевое сопровождение мелодии. То есть голос певца воспринимается как одна из музыкальных партий в произведении, а текст сам по себе не имеет никакого значения. За редким исключением. У нас всё-таки в традиции – понимание смысла. Несмотря на то, что в поп-песнях, на которых специализируется «Русское Радио», тексты оставляют желать лучшего – считается, что ты должен понимать, о чём поёшь. Я вырос в другой культуре: адекватно воспринимаю и англоязычную музыку, и французскую.
– На «Русском Радио» вам с Геннадием Бачинским довелось поработать в течение нескольких месяцев – с сентября 2001 по январь 2002 года… Это был скорее позитивный или негативный опыт? И кого из коллег вы можете назвать своими наставниками, учителями?
– Несмотря на то, что у этой радиостанции в то время уже было громкое имя и они могли позволить себе быть пафосными, там работали очень душевные, отзывчивые, простые в хорошем смысле слова люди. У них не было никакой ревности, зависти к нам, вновь пришедшим – что мы иногда встречали на других радиостанциях. Нас принял Александр Карлов – сегодня он не самый безвестный ведущий, в том числе телевизионный. Он научил нас с Геной работать на соответствующем оборудовании – потому что тогда оборудование на всех станциях различалось. За это умение работать в эфире могу сказать ему огромное спасибо.
– В 2012 году слова о больных муковисцидозом детях во время вашей передачи на радиостанции «Маяк» были квалифицированы как нарушение закона о СМИ. Расскажите, пожалуйста, об этой ситуации. Какие выводы вы из неё сделали?
– К моему огромному возмущению, мои недоброжелатели, которые не показывают свои физиономии, а работают анонимно, попытались выставить дело так, будто этот скандал произошёл с моим участием. Поскольку людей это волнует на протяжении многих лет, я повторяю: меня, Сергея Стиллавина, в эфире радиостанции «Маяк», когда случился скандал с муковисцидозом, не было. Я находился в командировке на Дальнем Востоке. Этот скандал произошёл, когда нас замещали наши, скажем так, коллеги. Работали они под вывеской нашей тогдашней программы. Но поскольку я считался ведущим утреннего шоу – а всё это произошло в утреннем эфире, – то до сих пор встречаются люди, которые спрашивают об этом скандале. И мне жаль, что меня в тот момент не оказалось в студии, чтобы сказать: разговор идёт не в ту сторону и ведётся не так, как должен вестись.
Так иногда происходит. Возьмём пример из российской истории: когда в 1917 году из российской власти был выдернут император, то остальные люди, которые считали себя равными друг другу, очень быстро перессорились. И ввели страну в хаос, который закончился в итоге Октябрьским переворотом: тогда всё-таки нашлась сила, которая взяла власть в свои руки индивидуально. Примерно то же произошло тогда в студии – собрались люди, каждый из которых считал, что он подчинённый и может себе позволить всё что угодно. Никто не взял на себя ответственность – и все считали: вот такая замечательная ситуация, давайте поржём…
– Ужасная ситуация. Но, если можно, продолжим разговор о радио. В нескольких недавних интервью, опубликованных в «УГ», были высказаны противоположные точки зрения по поводу радиовещания: например, ди-джей и телеведущий Дмитрий Оленин сказал, что влияние радио только усилилось; известный поп-певец Родион Газманов заявил о трансформации шоу-бизнеса, в результате которой соцсети создали мощную конкуренцию радиостанциям… Как считаете вы?
– Сейчас 70% контента «Радио «Маяк» автоматически становится ещё и подкастами, которые люди слушают позднее эфира. Что касается музыкальных радиостанций, то, конечно, перспективы у них плачевные. Потому что сегодня система доступа к музыке – со смартфона, с медийных устройств автомобилей, плюс развитие скоростного интернета – убивает необходимость транслировать какую-то музыку на радио. Сегодня музыка подбирается с учётом пожеланий слушателя без рекламы и новостей: хочешь новости – послушай их отдельно. Люди, которые относятся к поколению, выросшему вместе с чем-то, – они, конечно, будут этому «чему-то» следовать, старея и в конце концов уходя. Но молодые поколения, которые растут всё быстрее и быстрее, – станут воспринимать традиционное радиовещание так: кто-то, чтобы поесть, едет в ресторан, а кто-то звонит и заказывает еду домой.
Кому нужна атмосфера дорогого ресторана с эксклюзивным шеф-поваром – те будут оставаться при своём. Точно так же и с радиовещанием. Бриллианты останутся, а все пластмассовые клипсы уйдут.
– Тогда – ещё об одном бриллианте, судя по всему, грядущем. «Хочется сделать проект «Модерн» на волне ностальгии. Страна устала от цензуры коммерческой, от плей-листов. Хочу привлечь ключевых людей, веду сейчас переговоры», – говорили вы в интервью 2019 года. Делается ли что-то в этом направлении?
– Нас, конечно, подкосил коронавирус. Наши питерские друзья сейчас на добровольных, альтруистических началах монтируют фильм о судьбе радиостанции. Дожидаемся выхода картины – а дальше предпринимаем конкретные шаги, потому что с технологической точки зрения сегодня создание радиостанции является сегодня гораздо более простым делом, чем тридцать лет назад. И очень многие поддержали нашу идею возродить в каком-то виде «Радио Модерн» на новой основе. Этот проект должен напомнить нашим слушателям, что была такая радиостанция. И мне хочется посмотреть на реакцию после выхода этого фильма: насколько она будет массовой. Есть ли настоящая, живая память о «Модерне»? Это всё очень интересно.
– В контексте «настоящей и живой памяти» не могу не спросить о вашем погибшем коллеге Геннадии Бачинском. Что предпринимается сейчас для того, чтобы его не забыли? Чем его личность и опыт могут быть полезны подрастающему поколению?
– Конечно, соблазн сделать из ушедших людей идолов, кумиров или рок-героев всегда присутствует. Тем более что Гена действительно заслуживает этого – он был настоящей рок-звездой. Не в смысле музыкальном – хотя здесь он тоже попробовал себя. Но Гена был разносторонним, разноплановым человеком. Мне кажется, одна из самых важных вещей, которые он мне показал в жизни, – это то, что человек может быть целостным. Несмотря на то, что он мог иногда позволить себе бесшабашный образ жизни, ошибаться, оттягиваться в шутках и потом стыдиться этих шуток. Гена стыдился многих вещей в конце своей жизни – но, конечно, он не знал, что это конец.
А что касается памяти – я уже много лет подумываю о том, чтобы написать книгу о нём, и думаю, что даже нашлись бы редакции, которые бы её опубликовали. Но первые годы меня останавливал тот факт, что книга должна быть честной и при этом не должна ранить семью Гены. В последние годы он был очень трепетным семьянином, а в этой книге – если бы мы обошлись без купюр – было бы много нелицеприятного. Рисовать образ семьянина и христианина в конце жизни в отрыве от того, что он был довольно разгульным в молодости человеком, – глупо. Писать о том, что он только лишь разгульный, – не менее глупо. А вот описать трансформацию человека, который изменил себя и стал из отвязного рокера высоконравственным, верующим человеком, – это очень важно.
Вы должны понимать: Гена для меня был вроде отца. Он сыграл роль человека, который показал мне, как нужно поступать мужчине. И дело не в том, что мы были как-то особенно с ним близки: просто мы проводили вместе очень много времени. Воспитание – это не когда тебе говорят: «Делай так или так», а когда тебе подают пример. Иногда это были плохие примеры с его стороны, иногда хорошие. В любом случае – это школа жизни. Поэтому его уход был для меня личной трагедией: не только в смысле того, что мы были коллеги по работе, погоревали и разошлись. Несмотря на разницу в возрасте всего полтора года, он был гораздо взрослее меня. Он по-взрослому смотрел на вещи, но в нужные моменты умел быть ребёнком.
– Сергей, пожалуйста, напишите книгу, она очень нужна всем, кто помнит Геннадия.
– Я думаю, что однажды сяду за книжку. А что касается увековечивания – всё-таки остались кое-какие его эфиры. Образ Гены есть, стиль его юмора понятен людям. Конечно, радио – это сиюминутная история: многие шутки, которые были произнесены двадцать лет назад, сейчас, может быть, не станут работать. Но ведь у нас было не сценарное шоу: мы не являлись кэвээнщиками, которые шутят по бумажке. Мы шутили, потому что нам было весело. И вот эта атмосфера веселья – до сих пор жива. Память жива в тех людях, которые провели с нами свою юность. Мне до сих пор говорят: «Сергей, спасибо за то, что вы провели это время со мной». Кто-то признаётся: «Сергей, однажды я собирался на операцию, мне было очень тяжело. Я прослушал ваш эфир – и благодаря этому собрался и пошёл». А как-то один мужчина рассказал грустную историю: у него трагически погибла жена – фен упал в ванну, и её убило током. И он хотел наложить на себя руки. Но его вытащило то, что он слушал нас. Я не говорю, что вытащил человека с того света, но мне приятно: даже не зная о том, что в этот момент происходит, мы как-то ему помогли. И этот человек будет всегда благодарен Гене за то, что тот ему помог. Да и вообще, с возрастом ностальгия только усиливается.
– Кстати, о ностальгии. Несколько лет назад вы признавались, что у вас наступило «очередное увлечение Виктором Цоем» Совсем недавно отмечалась тридцатая годовщина со дня его гибели. Какую трансформацию претерпел образ Цоя за это время? Помнят ли его, любят ли до сих пор? Чем для вас важна его личность – и обращаетесь ли вы к ней по-прежнему?
– Любая трагическая история – когда человек ушёл из жизни против своей воли и тем более был звездой – всегда вызывает интерес. Когда уже невозможно ничего переписать, изменить… Я думаю, что Цой, несмотря на то, что он был романтиком и представителем своего времени, прежде всего чувствовал молодость. Не свою собственную, а просто молодость как таковую. И смог выразить это в простых и понятных строчках, коротких и оборванных: переживания молодого человека. Есть писатели мудрёные, с тяжёлым слогом: Достоевский, например. А есть Эрих Мария Ремарк – у него очень простые слова, а у тебя глубокие переживания в душе… То есть дело не в витиеватости строк – поэтов более классных, чем Цой, полно, и дай им Бог, конечно, здоровья, а многие уже ушли, – но это свойство его творчества, о котором я сказал, обеспечивает ему популярность у современной молодёжи. У той, которая понимает, что музыка – это всё-таки немножко больше, чем движения под какой-то ритм. Цой и его ребята были ещё и замечательными композиторами, которые очень минималистично записывали свои песни – благодаря чему те в звуковом плане за тридцать лет не состарились. Музыка, которая тогда писалась, сейчас в основном воспринимается как ретро. А Цоя любит молодёжь – больше, чем Высоцкого: перед последним у них нет пиетета, потому что это стихи сорокалетнего человека. Цой же остался молодым – в силу того, что рано погиб.
Его музыка очень ритмична, очень минималистична, а стихи идут от сердца. Цой не говорил о себе – он говорил о переживаниях, которые есть в жизни любого молодого человека. При этом, что удивительно, – он остался личностью.
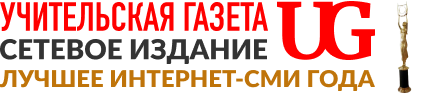










 Выбор читателей
Выбор читателей


Комментарии