29 сентября (по новому стилю) исполнится 200 лет со дня рождения яркого российского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Он занимает в русской литературе особое место. Во-первых, был талантлив. Но этим свойством не удивишь: даровиты были многие его современники. Но, во-вторых, талант его произрос не в благостном положении, а в критическом, одно время даже казавшемся безвыходным. В воспаленном воображении моего героя уже рисовались каторжные норы, которые могли надолго стать обиталищем красавца-дворянина…

А началось все с любви, будь она проклята! Но так мог подумать Александр Васильевич уже после того, как произошла трагедия, и его, как главного подозреваемого в совершении душегубства, затаскали по судам.
Однако это случилось позже. Пока же, в 1841 году, Сухово-Кобылин молод и беззаботен. Он, в отлично сшитом костюме беззаботно расхаживает по Парижу, глазеет по сторонам, восторгается местными красотами и, разумеется, красотками. Нагуляв аппетит, турист из России заглядывает в ресторан «Пале-Рояль».
Следует заметить, что Александр Васильевич был выходцем из знатной русской династии, потомком московского боярина Андрея Кобылы, родоначальника множества знаменитых родов и царской фамилии Романовых, крестником самого Александра Первого. Он, столбовой дворянин, имел несметные капиталы, владел чугуноплавильными заводами на Выксе, имениями в пяти губерниях – Тульской, Нижегородской, Владимирской, Московской и Тверской с тысячами крепостных.
Сухово-Кобылин был начитан, образован – прошел курс наук в Московском университете. В Германии два года изучал философию – слушал лекции в Берлинском и Гейдельбергском университетах. Он водил дружбу с Николаем Гоголем, Александром Герценом, Константином Аксаковым. Входил, похоже, и в кружок Николая Станкевича.
…Войдя в ресторан, Александр Васильевич узрел красивую молоденькую женщину, беседовавшую с дамой много ее старше, по всей вероятности, подругой-наставницей. Сухово-Кобылин подошел, щелкнув каблуками, представился. И попросил разрешения присесть за их столик.
Вскоре официант по его знаку поспешил за шампанским. В потолок полетела пробка, а в фужеры полился пенистый напиток. Русский дворянин предложил тост «за очаровательных французских женщин», который вызвал бурное одобрение парижанок.
Глаза Сухово-Кобылина блестят, он сыплет остротами, то и дело вызывая звонкий смех молоденькой женщины – ее звали Луиза Элизабет Симон-Деманш. Она была не только красавицей, но и особой деликатной, умной и потому пришлась русскому по вкусу. Да и парижанку новый знакомец заинтересовал. Что, впрочем, не мудрено: А.В. в ту пору ему не было и тридцати – был высок, статен, смуглое лицо, увенчанное закрученными вверх усами, выражало независимость и решительность.
Вдоволь наговорившись, Сухово-Кобылин позвал француженку в Санкт-Петербург. Конечно, он уже вознамерился закрутить с ней роман, однако не подал вида, прикрывшись желанием облегчить женщине жизнь: Луиза жаловалась, что никак не найдет себе занятие по душе.
Ох уж, эти щедрые русские! И Сухово-Кобылин был таков: он подарил даме кредитный билет в тысячу франков и пообещал место в салоне популярной петербургской портнихи Адрие. Довольная француженка согласилась. На том и расстались.
В те далекие времена события на любовном фронте разворачивались не столь стремительно, как ныне. Мужчины не торопились с решающим штурмом, предпочитая до поры, до времени разведку – встречались с прелестницами, танцевали на балах, засыпали пылкими посланиями.
Женщины же зорко наблюдали за поведением визави, приторно скромничали, жеманились, всем своим видом показывали, что выстроили надежные бастионы. Однако, постепенно сопротивление их слабело, и в один прекрасный день крепость, казавшая неприступной, выбрасывала белый флаг…
Они свиделись через год, когда Луиза уже жила в Санкт-Петербурге, служила, благодаря рекомендательному письму галантного русского у портнихи Андрие. Сухово-Кобылин, встретившись с Луизой, был рад, но – откровенен и сказал ей примерно следующее: «Я люблю вас, милая, но жениться, увы, не могу. Простите, вы – из низшего сословия, я – дворянин… Однако в моих силах не только скрасить вашу жизнь, но и сделать ее безбедной и беззаботной. В Москве у вас будут дом, деньги, слуги. Служить вам, разумеется, более не придется…»
Луиза зарделась и после короткой паузы согласно кивнула. Голова ее шла кругом: год назад она приехала в Россию с дорожным саквояжем, где лежали женские безделушки и несколько платьев. В ее потертом кошельке скромно примостилось несколько сотен франков. Но отныне все чудесным образом переменилось…
Сухово-Кобылин снял для Луизы роскошные апартаменты неподалеку от Страстного бульвара, возле дома генерал-губернатора в Брюсовом переулке. Он снабдил ее солидным капиталом в 60 тысяч целковых, сделал владелицей бакалейных лавок на Неглинной и винных магазинов в Охотном ряду, одарил загородным особняком в Останкине. Кроме того, Александр Васильевич предоставил Луизе горничных, повара, кучера, рассыльных, а также снабдил лошадьми и экипажами.
Впрочем, немалую часть времени француженка проводила в одиночестве или же в обществе своих добрых знакомых – Эрнестины Ландрет и поручика Сушкова, приятеля Александра Васильевича. Порой Луиза выезжала в подмосковное имение Сухово-Кобылина – село Хорошево, где гостила у своих соотечественников – семьи Кибер и у Иосифа Алуэна-Бессана.
С Луизой Сухово-Кобылин не выходил в свет, избегая сплетен, а лишь приезжал на несколько часов, «пить чай», как он шутливо выражался. Француженка, ставшая русской купчихой Луизой Ивановной Симон-Деманш, томилась, писала покровителю записки, полные грусти, со временем переросшей в отчаяние. У нее не было ни малейшей надежды, что любовник станет супругом…
Тянулись годы. Женщина, запертая в золотой клетке, становилась все более нервной, вспыльчивой, чаще срывала свое недовольство на слугах, взыскивая их за всякую безделицу, часто давая волю рукам. К примеру, она сильно поколотила щеткой крепостную Настасью Никифорову за то, что, возвратившись вечером домой, нашла девушку спящей и при зажженной свече.
Луиза часто ревновала Сухово-Кобылина и порой – не без оснований. Она терзала своего возлюбленного упреками, заливалась жгучими слезами, когда тот являлся. Их шумные ссоры слышала вся округа…
Наш герой не знал, что и делать. Бросить Луизу было бесчестно, оставаться с ней – тягостно. Впрочем, он пребывал в печали отнюдь не всегда. Много и часто развлекался, пировал. Занимался в фехтовальном зале, много времени проводил на скачках, да и сам слыл отменным наездником. В 1842 году Александр Васильевич стал лучшим жокеем России, обскакав, к удивлению публики, знаменитого петербургского жокея Демидова. В честь того события был учрежден приз имени Сухово-Кобылина.
Другой его страстью была карточная игра – да не простая, а с несусветными ставками – на громадные суммы, целые деревни и усадьбы! Однажды безудержный азарт помог Сухову-Кобылину выиграть родовое имение графа Антонова – деревню Захлебовку. Таким же образом он стал владельцем других земель.
…Утром 6 ноября 1850 года Сухово-Кобылин получил от Луизы записку: «Любезный Александр, заезжайте ко мне сегодня вечером, хоть на четверть часа. Мне необходимо поговорить с Вами. Я, может быть, беспокою Вас в последний раз…»
Внизу стояло пронзительное добавление:
«Прощайте, жизнь моя очень грустна. Вероятно, Вы уже скоро не услышите обо мне в Москве».
Вечером 7 ноября Луиза ушла из дому, наказав слугам не гасить свечи. Стало быть, мрачных мыслей у нее не было?! Однако в квартиру женщина не вернулась. Живой ее больше никто не видел.
«Утром 9 числа ноября месяца надзиратель 5-го квартала Пресненской части господин Герасимов приказал мне отправиться за Пресненскую заставу на Ходынское поле, – говорилось в показаниях казака Андрея Петрякова. – Исполняя приказание начальника, я тотчас поехал по назначению на верховой лошади и там заметил в стороне от дороги, сажени в три, мертвое тело в женском платье: около тела никаких признаков следа не было по случаю сильной метели снега, который совершенно покрывал и самое тело…»
Началось расследование убийства Деманш, которое во всех подробностях расписывали газеты. Очень скоро грянула сенсация – под подозрение попал ее возлюбленный Сухово-Кобылин. В его особняке на Страстном бульваре прошел обыск. А спустя несколько дней к дому а Васильевича подкатила черная карета, запряженная вороными. Из нее вышли два полицейских и четверо солдат с ружьями. Они вошли в дом и вскоре вывели на улицу хозяина – связанного, без шапки. Сухово-Кобылин вспоминал: «Немедленно был я заперт в секретный чулан Тверского частного дома, об стену с ворами, пьяною чернью и безнравственными женщинами, оглашавшими жуткими криками здание частной тюрьмы…»
По Москве стали гулять слухи, что Луиза, прознав о новой пассии нашего героя – дворянке Надежде Нарышкиной, «женщиной из лучшего московского общества и очень на виду», как писал о ней молодой Лев Толстой своей тетке Ергольской, устроила ей скандал. Француженка влепила Нарышкиной пощечину, и Сухово-Кобылин якобы запустил тяжелым канделябром в Луизу. Удар поверг ее наземь. Привести в чувство несчастную не удалось, и убийца решил замести следы и вывез тело на московскую окраину…
Как было на самом деле, никто не знает. А вот то, что новая любовница у Сухово-Кобылина завелась, – верно. Более того, она, вероятно, сыграла роковую роль в трагедии.
В тот роковой вечер, Луиза, зная, что любимый отправился на бал к Нарышкиной, направилась к ее дому. Остановилась перед освещенными окнами, терзаясь гневом и ревностью.
Луизу из своего дома увидела Нарышкина. И в ее голове мелькнула мстительная задумка. Она подозвала к окну Сухово-Кобылина, прильнула к нему и жарко поцеловала в губы…
Деманш, разумеется, все видела. Тогда, верно, у нее исчезла последняя надежда. И, может быть, впервые мелькнула мысль о самоубийстве. Но могло быть иначе: отчаявшаяся Луиза отправилась в московскую глушь в поисках гибели…
Впрочем, как было на самом деле, никто не знает. Неведомо и то, причастен ли был возлюбленный Деманш к ее смерти, или его обвиняли напрасно.
Во всяком случае, суда и каторги Сухово-Кобылин избежал. Но помучили его изрядно. Александр Васильевич долго сидел в тюрьме, следователи выбивали из него признание долго и с остервенением – один из допросов длился целых 11 часов! Ему грозили, что ежели он не сознается, страдания обрушатся на всю его семью. Неужто его близким острогом грозили? Ежели так, то в самодержавные годы на горизонте уже мелькнули мрачные тучи грядущих сталинских времен…
Следователи лезли из кожи вон, чтобы доказать, что Сухово-Кобылин – убийца. Больно крупной фигурой он был. Такую отпускать грешно! А главное, судейские понимали — с такого обвиняемого можно «поиметь» огромные деньги.
Поначалу наш герой был в деле главным обвиняемым, затем картина переменилась – его слуги признались в «мокром деле». Однако через некоторое время дворовые отказались от своих показаний. Тогда зловещая тень снова упала на Сухово-Кобылина. Казалось, что его вот-вот разоблачат, напялят серый арестантский халат и, закованного в кандалы, погонят по Владимирке…
Спустя много лет Александр Васильевич подтвердил: «Накануне каторги я был. И не будь у меня связей да денег, давно бы я сгнил где-нибудь в Сибири…» Сколько взяток он дал видным чиновникам – не счесть! К примеру, частный пристав Редькин запросил у него 20 тысяч, следователь Троицкий – 30. Требовали от него и полсотни тысяч, однако он не дал…
В отчаянии арестованный взывал к Николаю Первому: «Всемилостивейший Государь! Вся моя надежда, вся твердость заключилась ныне в непоколебимой вере в Вас, в Ваше Правосудие и милость, в вере, которую Правосудный Бог воплотил в моем сердца, как единственную, но твердую защиту против клеветы людей и противузакония тех из них, которые облечены Властью».
Спустя семь лет после начала следствия уголовное дело, наконец, закрылось, и Сухово-Кобылин был объявлен невиновным. Другого, менее состоятельного или вовсе бедного человека, засудили бы его всенепременно. Неважно, виновного или с чистой совестью…
Странно, что именно в тюрьме Александр Васильевич взялся за перо. Он взял и, словно шутя, написал гениальную пьесу «Свадьба Кречинского». Через несколько лет создал другую – «Дело», со временем еще одну – «Смерть Тарелкина». Все они имели бешеный успех у публики. Сухово-Кобылина в свое время ставили выше корифея Островского!
Итак, он окунулся в творчество волею печальных обстоятельств. А ежели бы все было гладко в его жизни, может, не узнали бы мы, насколько он даровит. Ответа нет, но размышляйте, дамы и господа, примеряйте на себя его судьбу…
Своим пером Сухово-Кобылин отомстил за причиненные ему страдания, «наказал кнутом чиновную челядь». Хотя цензура измучила его беспрестанными придирками, угрозами запретить пьесы. Но наш герой превозмог недовольство судьбы, и выбился в лучшие драматурги России!
Достигнув признания, он, тем не менее, излишне скромничал: «Я помещик, дворянин, владелец водочного завода – все, что хотите, но только не литератор. Я написал свои пьесы не для литературы, а скорее всего для самого себя, вот, быть может, отчего их нельзя встретить ни в одном учебнике литературы…»
… Вскоре после гибели Деманш, Нарышкина уехала за границу. Не развлекаться и красоваться, а потому что была беременна – и не от мужа, а от Сухово-Кобылина. Вскоре она родила дочку…
По всей вероятности, Нарышкина горько жалела об уловке. Не потому ли назвала свою малышку Луизой?!
Сухово-Кобылин искал счастье, но все было тщетно. Александр Васильевич дважды женился и столько же раз вдовел. Стонал от ударов судьбы: «Частота смертей в моей жизни превысила допустимые пределы».
В одной из комнат дома Сухово-Кобылина висел портрет погибшей возлюбленной. Он часто ездил на Введенское кладбище и, закрыв глаза, прислонялся лбом к холодному мрамору, на котором было высечено: «A la chere et triste memoire de Louise Elisabeth Simon, nee le 1 Avril 1819 − le 7 Novembre 1850» – «Дорогой и печальной памяти Луизы Элизабет Симон, рожденной 1 апреля 1819, умершей 7 ноября 1850».
Фото с сайтов www.bibliogorod.ru, www.bilettorg.ru








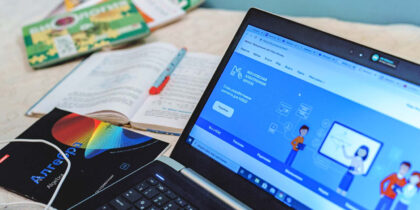

 Выбор читателей
Выбор читателей


Комментарии