Мне очень повезло с учительницей начальных классов. Свою автобиографическую повесть «Учителя» я начала с рассказа о ней. Ирина Васильевна (умирая, буду помнить её имя) была просто фантастически одарённым человеком, излучающим свет.

Абсолютно простая женщина, совершенно не голубых кровей, и при этом была образцом такта – с одной стороны, с другой – как-то очень правильно понимала мироздание. Все ученики ею, что называется, «правильно позиционировались». Мне повезло учиться у нее 4 года, и все эти годы я была отличницей. А остальное школьное время я вспоминаю, как страшный сон.
С пятого по седьмой класс меня перевели в оздоровительный интернат, так там вообще учителями работали люди, которых нельзя подпускать к детям, разве что к железным чушкам. И, вернувшись в свою школу в переходном возрасте, я уже относилась к её посещению формально, не рассчитывая получить в ней ничего, кроме аттестата.
Учителя казались мне совковыми злодеями, не способными ни нормально дать учебный материал, ни нормально построить коммуникацию – людьми, которых к детям нельзя подпускать на пушечный выстрел. Исключением были два педагога: физик и географичка.
Я училась в школе №256 в районе проспекта Вернадского. В только что построенные пятиэтажки переселили людей из коммуналок с улицы Горького и Арбата. Публика была
совершенно бомондная: четыре мальчика из нашего класса поступили в МГМИМО. Но
район только осваивал свои земли, и на территории Никулино и Олимпийской
деревни были деревни настоящие. И деревенские дети ходили в школу по пять километров пешком – это считалось нормальным. В этом смысле в школе было сословное общество, жившее по разным законам. Деревенские девочки к восьмому классу нередко оказывались беременными, переходили в вечернюю школу или в ПТУ.
Как я теперь понимаю, наши учителя в основном были людьми, совершившими колоссальную ошибку, выбрав педагогику.
Они не любили детей, не чувствовали их и, в отличие от Ирины Васильевны, не умели обмениваться с ними энергией. В конце седьмого класса я отказалась вступать в комсомол. Это, конечно, был скандал, но я была закалена интернатской жизнью. Ведь лечебный интернат был настоящим ГУЛАГом для больных детей – лечил руки и ноги, но калечил психику. Меня спасало то, что я была не очень больная, с одной стороны, с другой стороны, будучи дочерью номенклатурного работника, вела себя вызывающе, качала права. За это меня в конце шестого класса выгнали из интерната «за аморальное поведение». Это смешная история. Тётка, случайно ставшая директором интерната (на самом деле у нее не было педагогического образования, она была ткачиха из выдвиженок), не то что с больными детьми не могла общаться, но даже со здоровыми взрослыми. В пятом классе у меня умер отец, которого я очень любила. А в детстве у меня было амплуа вундеркинда, я хорошо говорила, хорошо писала, и к месту цитировала заумные фразы. Так что с начала шестого класса ходила по интернату, нося подмышкой книгу «Основы марксисткой философии». Причем не просто носила ее, а подчёркивала какие-то фразы и пыталась объяснять смысл прочитанного подружкам.
Конечно, они мало что понимали, но это была последняя книга, которую мой отец редактировал и составлял перед смертью. Наверное, у нормального педагога хватило бы ума понять мое «странное» поведение или умно расспросить о нём. Но наша директриса не отличалась высоким интеллектом, поэтому она стала меня, девочку-шестиклассницу, подозревать чуть ли не в организации философского кружка. А мы в шестом классе уже красили ресницы. Не столько для мальчиков, сколько потому, что это было запрещено, и воспитательницы шмонали в спальнях тумбочки в поисках косметики. А мы обвязывали коробочку ленинградской туши нитками, вывешивали за окошко, и утром снова появлялись в классе с накрашенными ресницами.
Однажды директриса вызвала меня к себе, что было шоком для всего интерната, потому что к ней в кабинет вызывали сотрудников и старшеклассников, а я была ещё мала… Весь интернат ждал за дверями, чтоб узнать, что ж я такого натворила. Я и сама не понимала причины такого внимания, гордо зашла в кабинет. Она пошуршала своими бумагами и безразлично спросила: «Тебе что, в интернате не нравится?» А я, будучи наивным и самонадеянным вундеркиндом, естественно, решила, что она вызвала меня посоветоваться. Открыла рот и произнесла длинную пафосную речь о том, что и как в интернате надо поменять. Пока я держала речь, которая мне казалась пламенной, умной и конструктивной, директриса листала бумаги на столе. И когда я закончила, исчерпав словарный запас и ожидая овации, она подняла на меня глаза и сказала: «Ну, всё, пошла отсюдова!» И я была в шоке и даже не понимала, как объяснить произошедшее ждавшим меня за дверями. И объяснила в соответствие с возрастом: «Она полная дура! У неё вообще нет мозга!»
Но она не была дурой, она просто видела мир на уровне своего образования, точнее, своей необразованности, и выслушав мою филиппику, приняла решение о том, что «этого ей в интернате не нужно». Она поехала со мной к моей маме и попросила забрать меня из интерната. Но она же не могла сказать маме, что исключает меня за то, что я хожу по коридору с учебником философии, и она выразила мысль на своём языке. Сказала: «Забирайте, а то она мне принесёт в подоле…». Когда моя мать увидела директора интерната, когда послушала ее речь, она пришла в ужас. Сказала: «Боже, как этим людям доверяют детей?!» …Я спросила: «Что она тебе говорила?» Мать, пребывавшая в недоумении, ответила: «Она сказала, что ты принесёшь в подоле»… Я не знала этого выражения и спросила у мамы, что это значит? Она сказала: «Родишь ребёнка». Помню, это меня потрясло, потому что я была ещё «не по этой части». Я спросила: «А разве можно родить в шестом классе?» Мама подала плечами и ответила: «Она думает, что можно». Таким образом, я была исключена за аморальное поведение, выражающееся на языке директрисы определением «больно умная». Есть закон писаный, а есть закон обычая… Я бы поняла, если б меня исключили по закону писаному, то есть если бы я была двоечницей, или, допустим, разбила окно, подралась с девочкой за красивую заколку – то есть, если б были какие-то понятные для девочек проступки…Но тогда меня оглушило своей непонятностью.
Естественно, вернувшись в свою школу, я была оснащена совершенно иным опытом, чем был за плечами у одноклассников. К тому моменту я перенесла тяжёлую операцию на ноге, имела опыт жизни рядом с очень серьёзно больными детьми. Так что одноклассники казались мне совершеннейшими детьми потому, что я уже прошла через другого уровня боль, горечь, сопротивление. Я была свидетелем и участником историй, которые не случаются в обычной школе или случаются по-другому. Например, меня в интернате били всем классом, опять-таки не потому, что я нарушила что-то, а потому, что я была другая, я могла себе позволить быть другой. Это называлось делать «тёмную». Больных детей держали как зеков, и они копировали их жизнь, так что по сути это была тюремная «прописка». Завели обманом в беседку в лесу, натянули шапку на глаза и всей шоблой били костылями по лицу… Это было серьёзно. Наверное, поэтому я не общаюсь ни с кем из того класса.
Меня спрашивают о том, как я попала в интернат и почему родители не забрали меня оттуда, узнав об избиении. Надо сказать, что я вообще не хотела в специнтернат, но мама, как бы это выразиться, была такая барыней, и ни разу туда не съездила. Она решила, что девочку надо лечить, хотя никто, конечно, в интернате нас толком не лечил… Когда меня избили, я приехала домой через всю Москву с разбитым лицом. Родители, разумеется, встревожились не на шутку. Папа поехал к директору, что-то выяснял, всем дали по ушам, но меня всё равно оставили в интернате, хотя мне это было некомфортно. Это была тюрьма народов, а я уже, что называется, пожила на свободе, и меня непросто было сломать. Конечно, если ребёнка отдавали туда с первого класса, он вырастал рабом, потому что там была полная безнаказанность педагогов…Так вот, вернувшись в школу, я уже была необычной девочкой, в том смысле, что могла постоять за свои права по полной программе.
В девятом классе я стала посещать школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ. Дорога на журфака шла от улицы Горького. Обычно там стояли хиппи, и я довольно быстро нашла там единомышленников и вписалась в их ряды. Пыталась надевать в школу шокирующие вещи, озвучивать шокирующие тексты. Короче, антисоветская оторва, но при этом мои сочинения побеждали на олимпиадах. Моя классная руководительница, Татьяна, я даже не помню ее отчества, пригрозила, что напишет такую характеристику, что я останусь без высшего образования. И это при том, что почти весь десятый класс я пролежала в больнице, перенесла тяжелейшую операцию на ноге и вернулась в строй только к концу учебного года.
Поскольку я была на костылях и в гипсе, в какое-то время педагоги ходили ко мне на дом. Они, естественно, ничему меня не учили, приходили, пили чай, разговаривали – им всё было по барабану. От экзаменов меня тоже освободили, потому что мне нечего было сдавать, я ничего не знала, уроки в больнице проводились халтурно. Одним словом, вспоминаю школу, как какое-то тюремное заключение, которое нельзя было обойти. Именно в школе сформировалась моя протестная позиция. И не у меня одной…Помню свое глубочайшее потрясение, когда после выпускного бала девочка из параллельного
класса, не отличница, а гипер-отличница, супер-хорошая девочка – взяла мел и полночи на школьном дворе писала матом большими буквами всё, что она думает об учителях…
Я не помню, было ли у этой истории продолжение. Думаю, все это с утра просто стёрли, смыли…Вопрос в том, что девочка была в школе человеком абсолютно системным, готовым подо всех гнуться, ломаться, молчать, но каково же было ее напряжение, если полночи, пока все гуляли и танцевали, она потратила на то, чтобы утром все ЭТО увидели! Кстати, переписываясь с эмигрировавшей одноклассницей, я узнала, что двух наших круглых отличниц (одна была в нашем классе, вторая – в параллельном) уже нет в живых. Они обе спились. Это о многом говорит.
Снабжённая опытом я, естественно, очень внимательно относилась к выбору школы для сыновей. У них тоже была потрясающая учительница до 4-го класса, расставаясь с ней, некоторые родители даже плакали. Это был уже другой район, Ясенево, и времена были другие – конец 80-х. А потом мы ушли из той школы, в лучшую из тех, что были в Ясенево. Там обучали по какой-то очень американской системе. Мы, как и многие россияне, тогда ещё были в плену иллюзий – верили, что американское образование лучшее. Я перевела туда детей, но в тот момент оттуда ушёл директор, а на его место назначили женщину, которая всю перестройку руководила посольской школой, не понимала, как меняется страна, и её представления о педагогике законсервировались на 37-ом.
К тому моменту, когда мои дети начали там учиться, я уже была автором пьесы про школу. Это была моя первая пьеса, которая широко пошла, ее сразу поставили в 20 театрах, она называлась «Анкета для родителей». Это история про молодого учителя, который идет в школу после университета, чтобы спасать детские души. Он дает родителям анкету с очень неудобными для них вопросами. Родители его изгоняют из школы, а дети устраивают забастовку, чтобы его вернули обратно… У меня был прототип, что-то я домыслила, но попала в точку. Пьеса была вполне антисоветская, но поскольку речь шла о школе, это не всем и не сразу было видно. Словом, я была маститым автором, хотя, конечно, выглядела не очень солидно. Я родила сыновей-близнецов в 20 лет, и когда они учились в 5-м классе, мне было 31, а выглядела я на 21. Это очень мешало в войне с учителями. У них, например, была учительница, приехавшая из Армении и очень плохо говорившая по-русски. Опалённая войной, она творила в классе что-то невероятное. Одному мальчику разбила голову о косяк двери, второго таскала за волосы… И это происходило в лучшей школе в Ясенево…При этом отец мальчика с разбитой головой был первым секретарём посольства не скажу какой буйной страны. Отец мальчика, которого таскали за волосы, был активным политическим деятелем. Тогда он был молодой, но и до сих пор на той же стезе какие-то посты занимает…
У нас произошла не такая кровавая история, я и не знала об этих двух случаях, это потом выплыло. Учительница перепутала моих парней и одного, приняв за другого, взяла за
плечо, протащила через весь класс и сказала: «Будешь сидеть здесь», после чего оба встали – сказалась закалка домашняя и разговоры про права человека – и ушли из класса. Пришли домой и объявили: «Больше мы в школу не пойдём». Я в ответ на это написала письмо в РОНО, как сейчас помню, в детский фонд и, скорее всего, в «Учительскую газету». Сразу после этого директор пришла в класс и заявила, что братья Пётр и Павел мешают учебному процессу, и если их из школы не убрать, то класс будет расформирован. Никто в этот момент ещё вообще не понимал, что существует закон. Она попросила класс проголосовать за исключение моих сыновей из школы, что было, абсолютным растлением детей. После этого педагоги стали лепить им «двойки», то есть
выдавливать из школы самыми гнусными методами. Тогда мы с мужем пошли в РОНО и
поставили их на домашнее обучение, по четвертям они сдавали зачёты в нашем
присутствии… Это была небывалая прежде война, на нас все смотрели с завистью и непониманием. Нам советовали: « Уйдите в другую школу», мы говорили: «Нет, уйдут они». А потом мы сели на поезд и в Великобританию, где моя тётя, увезённая в 5 лет из СССР в Израиль, жила с моим дядей, который как раз был директором Британского
колледжа. Они были готовы оставить мальчиков у себя и учить за свои деньги.
Тогда ещё никаких поездок детей нуворишей в Лондон не было, шёл 90-й год. Мой дядя Рональд – бывший офицер британской разведки, служивший в Израиле, поменял военное ведомство на образовательное для того, чтобы жениться на моей тёте. Потому, что её родители-либералы никогда не отдали бы её за «колонизатора» и не отпустили бы с ним в Лондон. Так вот дядя Рональдь, когда мы приехали с детьми, сказал: «Боюсь, ты плохо представляешь наши школы, давай мы с тобой сначала сходим на экскурсию». И мы пошли на экскурсию в Итон вместе с моими сыновьями. В Итон, который считается мечтой недалёких богатых родителей. Придя в Итон, я увидела свой специнтернат: только стены здесь оказались ещё более грязными и пыльными, кормили в сто раз хуже, учителя были с теми же с фашистскими лицами и дети с детдомовским взглядом. Сыновья посмотрели на это и спросили: «Мама, неужели ты нас тут оставишь?…» И мы отказались от импортного образования.
Вообще, вывоз детей за границу означает одно: ребёнок в семье не нужен. Мама с
папой не живут вместе или являются какой-то извращённой формой семьи. Они
покупают «отмазку», являющуюся пиаром для окружающих, мол, «они ребенку дали
всё». Либо дети становятся неуправляемыми в переходном возрасте, и их отдают в заграничные пансионы, как в исправительную колонию. Потом многие забирают детей оттуда, причем с сильной наркоманией. Моя подруга отправила ребёнка в Итон, потом он рассказывал, как его там избивали три корейца, объясняя, что он человек низшей расы…Он не мог пожаловаться, потому что строил из себя настоящего мужчину. Одного английского политика спросили, когда он вышел из тюрьмы: «Тяжело вам было?» Он ответил: «Ну, что вы! Как же мне может быть тяжело, я же окончил Итон!» Короче говоря, мы вернулись… К этому моменту открылся лицей на Воробьёвых горах, мы прошли туда сумасшедший конкурс, в котором претендентов отбирала машина. Мои дети проучились там довольно долго, но в 8-м классе их тоже выгнали за «аморальное поведение». Они поехали в город Ростов, и там так же, как и я, бесконечно качали права. Там были такие тётки, не педагоги, а филологини, которые до этого вели кружки. Когда был создан лицей, и они не знали, что делать с подростками, они их боялись… А мои парни не хамили, а качали права, что значительно страшнее для бездарных учителей.
Одним словом, их выгнали за аморальное поведение из гуманитарно-эстетического класса. И тогда за ними в знак протеста ушли все мальчики, кроме одного… Потом был еще один лицей, откуда они тоже вскоре ушли в другое замечательное заведение – экстернатуру для особо трудных и одарённых детей. Некоторых детей туда привозили охранники и стерегли, чтобы не убежали из класса… Некоторые были такие же одарённые, как мои. Там тоже возник «идеологический конфликт» со старым коммунистом. В старших классах у сыновей уже была рок-группа, и соответствующий стиль одежды. Павел пришёл в лицей в высоких ботинках с одним шнурком красным, другим – чёрным. Старый коммунист спросил: что это? Павел вежливо ответил, что это «идеологическое». Тут коммуниста прорвало, и он захлебнулся в истерике, что никто не имеет произносить это слово, кроме него, и что пусть придут родители, заберут документы, он сделает всё, чтоб молодой человек в таких шнурках был отчислен. Шёл 1994 год, всем снесло крышу. Муж отправился с коробкой конфет к секретарше и ушёл оттуда… с двумя аттестатами. Таким образом закончились наши мытарства.
Из-за того, что классная руководительница ненавидела моё свободолюбие и отразила это в характеристике, я не должна была получить высшего образования. Но я пошла на философский факультет МГУ, на вечернее отделение, чтобы не было видно, что не комсомолка. А потом я ушла с философского и закончила отделение драматургии Литературного института. Мой сын Пётр Мирошник – культуролог, окончил аспирантуру по философии, координатор Архнадзора и главный редактор портала «Четвёртый Рим» о развитии городов будущего. Кстати, он автор проекта «Парк в Зарядье». Мой сын Павел Мирошник – модный психотерапевт, занимается регрессионной терапией: отправляет людей в прошлые жизни, и возвращает их оттуда уже без всяких неврозов и психозов. Умнейшие господа, с прекрасным образованием. Если бы в школе им попадались только профессиональные учителя, а не закомплексованные идиотки, они сэкономили бы больше времени и нервов, и принесли бы стране ещё больше пользы.
Я не знаю, как сейчас учат в вузах, слышу, что все ругают наше образование, но когда я общаюсь с собственными сыновьями, учившимися в России, и сравниваю с детьми моих знакомых, которые учились не в России, или с иностранными студентами (иногда мне приходится вести какой-нибудь мастер-класс с западниками, со славистами), то сравнение всегда в нашу пользу. Когда мне рассказывают, что МГУ находится где-то под плинтусом, я говорю: «Кто считает? Если считают американцы, чему, скажите, удивляться?» А в Европе… Прошлой зимой в одном немецком университете я давала интервью в присутствии директорши Института славистики, профессорши. Журналистка спросила меня: «В какой период вы стали феминисткой?» Я сказала, что, как господин Журден, всегда была феминисткой, но не знала, что «это» так называется. Профессорша спросила меня: «А кто такой господин Журден?» На этом разговор о качестве европейского образования можно закончить…
Но это не значит, что в нашем образовании все прекрасно. Когда я баллотировалась в 1999 году по университетскому округу, местом, в котором вскрывались урны, я выбрала свою школу. Совпадением было то, что моя школа, дом, в котором я жила, когда училась, и избирательная комиссия района находились в треугольнике – стояли вплотную друг к другу. В это никто не мог поверить, мне говорили: «Ты обманываешь, что ты жила в этом доме напротив избирательной комиссии и училась в этой школе, этого не может быть! Это пиар!» Помню, что меня совершенно потрясло в этой школе. Вы знаете такие типовые школы, на фасаде которых Пушкин, Толстой и иже с ними. И когда я зашла в туалет для девочек, который посещала в юные годы, увидела, что там нет двери. Когда я училась, я даже не замечала этого, но взрослую меня это потрясло – советским детям не предполагалось частного пространства даже там. Это деталь, но она о многом говорит. Я никогда не отдам своих внуков и внучек в школу, где в туалетах нет дверей.
Взгляд записала Вера Кострова
Фото с ресурса: http://www.kp.ru/daily/press/detail/3099/
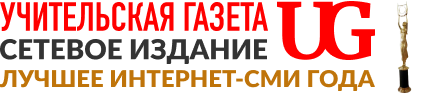










 Выбор читателей
Выбор читателей


Комментарии