Мечта о совместном бытии
При слове «оттепель» в уме возникают образы: Театр «Современник», минуты чтения стихов в Политехническом из фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, споры почти плакатных физиков и лириков. Все эти явления достигли настоящего размаха уже в годы застоя: Театр «Современник» превратился из студийного театра в современную площадку с минималистической сценографией, как в спектакле «Восхождение на Фудзияму» (1973), стадионы Евтушенко начал собирать по преимуществу в 1970-е годы, причем сначала в США, а уже после в СССР, «Сказка о тройке» Стругацких, продолжающая «Понедельник…», написана на самом излете «оттепели», а физики реализовали себя уже в бруталистских НИИ и наукоградах долгих семидесятых. Память поневоле проецирует более поздние состояния системы на более ранние, чтобы вместить в исторические формулы больше впечатлений и приятных воспоминаний.
Но если говорить о специфике «оттепели», лучше вспомнить более ранний фильм Хуциева «Весна на Заречной улице», где Блок оказывается иноземным гостем: «ухажер со стрижкой как у Тарзана» для простоватой Зинаиды, но также говорящий на неведомом языке и для школьницы с библиотечной книгой. «Утонченность мечты» – как объяснить эти слова? Для этого недостаточно старых клише из брошюр или стихов «лауреатов». Два тома Чупринина исследуют «оттепель» как обретение слов и литературных практик, прежде утраченных на три десятилетия. Обе книги посвящены попыткам писателей, редакторов, издателей возобновить сразу после кончины Сталина свободные обычаи нэпа, авангарда в широком смысле, и обе указывают на те ограничения, с которыми сразу сталкивались участники литературной жизни.
Само кооперативное книгоиздание, как выпуск альманаха «Литературная Москва», было возвращением к практикам 1920-х годов, но с неизбежной осторожностью. Альманах должен был отстоять свое право на следующие выпуски, тогда как в 1920-е авторы смели рисковать, служа каждый своей эстетике. Сам литературный сборник был таким же новым словом, как «утонченность мечты»: трудно было объяснить, как в индустриальном мире вдруг возникает мечта о совместном бытии и как бы отпускании произведений на свободу, объединяющая писателей – от лауреатов до только что запрещенных.
Критик как синхронизатор культуры
Книга Чупринина о неповиновении показывает, как журнал был индустриальным явлением, каждый выбирал себе индустрию по плечу: Твардовский не согласился редактировать «Октябрь» как чуждое себе явление, а 84-летний Катаев уже на излете брежневской эры хотел стать редактором «Нового мира» и получил отказ. В этом, конечно, «оттепельность» и проявляется: ты не просто работаешь для индустрии и совершаешь трудовые подвиги, но некоторые виды индустрии делают тебе честь. Ты не мобилизован комитетом, но сам выступаешь как политик и дипломат своего дела в духе французской культурной дипломатии.
Но не все смогли стать гибкими политиками. Скажем, Шкловский, отдыхая в Ялте, опубликовал осуждение Пастернака в местной газете. Понятно, что в литературных кругах сразу все всё узнали, так что стратегия печатать обличение не в «Правде», а в в газете курортного города не была дальновидной. Но Шкловский привык к своей роли критика: если писатель еще может уклониться от «гладкого голосованья» (цитата из стихотворения Бориса Пастернака), то с критика несколько раз все спросят.
Ведь если писатель имеет право медлить, то от критика требуют непосредственной реакции, и эта логика запроса деформировала и сам институт производства критики. Именно потому, что критик мог выступать и в журнале, и в альманахе, и в сборнике статей, от критика ждали реакций на все, включая театр и кинематограф. Критик был как бы публичным синхронизатором культуры: он не столько рассказывал читателям о новинках литературы (за ними охотились сами читатели, если они были хорошие), сколько сводил все явления современной культуры к принадлежащим современности или отстающим от нее.
Тогда в чем был козырь критики журнала «Новый мир», начиная со знаменитой статьи Померанцева, который противопоставил «искренность в литературе» шаблонам и лакировке прежнего официоза? Нельзя сказать, что это только борьба за жизненную правду, вычитывать эту жизненную правду читатель мог бы и из неудачных произведений. Это борьба за честность понятий, за то, чтобы сами основные понятия, такие как искренность, употреблялись честно, чтобы так не называлась субъективная искренность, но именовалась готовность признать и свои, и чужие ошибки. Как показала полемика критиков «Нового мира» против соперников, дело было в понятиях, а не в правдивости. Нельзя просто говорить о правде жизни, и воспевать ее, и восхищаться ею, это будет новая лакировка действительности, идеализация уже не строя, а отдельных персонажей. Нужно исходить из того, что правда жизни, часть системы понятий, позволяющих вести систематические наблюдения, а не верить слову первого встречного.
Романы секретарей сродни биологии
Чупринин реконструирует, как работала такая честность понятий. Критическая статья не была указанием на отдельные недочеты, она начиналась как бы на стороне произведения, как аккуратный пересказ. О героях говорилось как о типичных, что они как живые люди. Но потом выяснялось, что правда жизни, встроенная в правду понятий, подрывает риторическую правду критикуемых произведений. Скажем, главный герой занимает положение положительного. Но если бы такие поступки, например шантаж или сговор, даже ради лучших целей, были свойственны человеку в жизни, то мы бы назвали его негодяем, более того, отметили бы его мелочность и бестактность. Или (пример тоже условный) второстепенный герой обвинен в мещанстве, но в жизни такой герой всем бы помог, видя ситуацию на несколько шагов вперед. Или передовик производства, как он изображен в романе, если бы мы его встретили в жизни, оказался бы человеком устаревших социальных привычек. А легкомысленный с точки зрения общих мест большого советского романа герой как раз показал бы житейскую проницательность.
Как пишет сам исследователь: «Принято было, в частности, не без коварства заявлять о своей полной будто бы солидарности с писателем в исходных посылках и либо в самом начале разговора, либо по мере его движения отмечать достоинства разбираемой книги, а если таковых не обнаруживалось, то на худой конец достоинства ее замысла и благих авторских намерений. Затем следовал обстоятельный и, как правило, восходящий от внешне миролюбивой иронии к гневному сарказму пересказ основных сюжетных перипетий и коллизий, причем о качестве письма и уровне художественности упоминалось лишь попутно и как бы вскользь, между делом, поскольку рецензент полагал главным прежде всего оголение смысловой конструкции произведения, срывание всех и всяческих симпатичных масок, которые по воле автора напяливали на себя его герои, и в итоге тщательное сличение того, что было вроде бы задумано писателем, с тем, что вышло на самом деле, того, что читатель видит в книге, с тем, с чем он в жизни сталкивался на каждом шагу» («Оттепель как неповиновение», с. 96).
Можно сказать, что критикуемые романы секретарей Союза писателей были сродни лысенковской биологии: среда определяет поведение растения, и при всей перемене политических позиций этих писателей при разоблачении культа личности сами ценностные ряды оставались старыми – передовик должен быть главным на заводе, а мещанин рано или поздно покажет преступное нутро. Завод как бы порождает передовиков, а быт – мещан. Тогда как критика «Нового мира» была как бы кибернетической, не сводящей функционирование системы к отдельным ее проявлениям. Разумеется, эстетика, которую трудно было обосновать как независимую позицию суждения в условиях рутинизированного и нормированного журнально-литературного производства, уступала место здравому смыслу читателей.
Авторы «Нового мира» опирались на демократическую критику XIX века, на Николая Добролюбова, который говорил, что литература изображает только общественные явления, даже если писателю кажется, что он изображает частные явления (на Добролюбова ссылался Игорь Виноградов, там же, с. 101). Но Владимир Лакшин тогда же писал, что критик – это не просто социальный мыслитель, но скептик, сама по себе переходная текущая эпоха требует скептицизма, пересмотра «ветхих догм». Скептическая позиция принималась тогда в свою очередь как единственный способ сконструировать время как переходное, как непохожее на прежнее, хотя при этом неизвестно, кто победит – ищущие истину, которых назовут идеалистами, или циники, легко приноровившиеся к обстоятельствам. Мы помним, что об этой дилемме говорил и Евтушенко в поэме «Братская ГЭС»: «Циники – балласт на корабле человечества, а идеалисты – руль и паруса». Философ Эрих Соловьев солидаризовался тогда же с французскими экзистенциалистами, которых прежде клеймили как буржуазных идеалистов, как с борцами против социального цинизма.
Чудеса как результат отложенных замыслов
Противопоставление циников и идеалистов, уже не бытовое, а социальное, как часть конструирования публичного поля, еще очень слабого и робкого, требовало мыслить саму эпоху как переходную, ведь ни об одном молодом герое тогдашних ярких романов нельзя сказать, станет он циником или идеалистом. Вообще, «оттепельный» роман часто превращается в неустойчивую форму, потому что готовых характеров в нем нет, есть идеалы и быт, ищущие люди, намеченные пунктиром, что еще больше усиливает ощущение переходной эпохи.
Темы книги «Неповиновение» различны: история непубликации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в СССР, репутация толстых журналов, возникновение института «подписантов», встающих на защиту диссидентов, и др., включая вопрос о достоверности воспоминаний Евтушенко. Во всех случаях анализируются не столько мотивы людей, сколько устройство социального поля, внутри которого можно заставить подписантов снять подписи, но уже нельзя отменить репутацию. Роман Пастернака обладал репутацией романа о жизни и истине даже для шельмующих его и для лукавого Шкловского.
Но институт репутации требует подтверждать свою порядочность, отсюда постоянные расхождения мемуарных версий, кто как объяснял и раскрывал свои поступки. Это не ложь или забывчивость участников культурной жизни, но действие переходного периода: когда всех заставят замолчать, а ты сам намечен пунктиром в скудном публичном поле, твоя невольная фантазия привлечет желанные свидетельства в твою пользу. Более чем тысячестраничная биографическая энциклопедия «Действующие лица» об этом: о созидании своей личности в шестидесятые не как обязательно правдивой, но соответствующей понятиям о правде, чести, достоинстве писателя. Дальше, после шестидесятых, говоря словами жития, уже «посмертные чудеса» – написанное писателем позднее может быть совершенно чудесным, но не связанным с перипетией этого рискованного выковывания своей биографии. Эти чудеса – результат отложенных замыслов, но не хождения в той неповторимой неуверенности всегда юных шестидесятых.
Сергей Чупринин. Оттепель: Действующие лица. – М. : Новое литературное обозрение, 2023. – 1112 с.
Сергей Чупринин. Оттепель как неповиновение. – М. : Новое литературное обозрение, 2023. – 224 с.
Александр МАРКОВ, профессор РГГУ

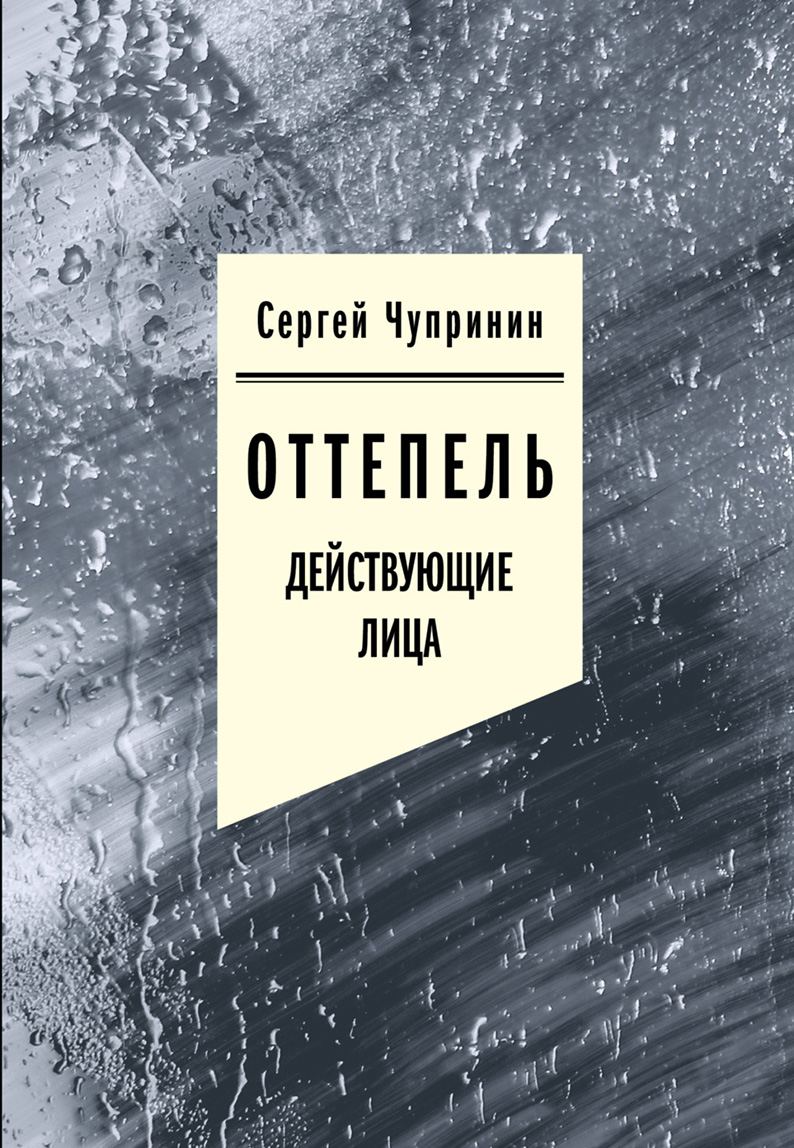







 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии