Кандидат философских наук, литературный критик, писатель, известный по псевдониму Сухбат Афлатуни, Евгений Абдуллаев на протяжении последних лет работал над изданием «Лицейского словаря Кюхельбекера». Более двух столетий эти дневниковые записи пылились в архивах, хотя литературоведы не раз пытались издать рукопись. В этом году книга наконец увидела свет. О том, как шла подготовка и почему это событие для мира литературы и философии очень важное, – в нашем свежем интервью с Евгением Абдуллаевым. Рецензия Василия Геронимуса на сборник в рубрике «А вы читали?» этого же номера.
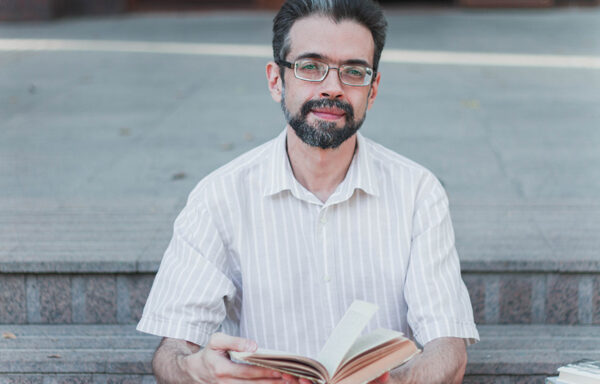
Фото с сайта pravmir.ru
– Евгений, «Лицейский словарь» Кюхельбекер вел в 1815-1816 годы. В предисловии вы отмечаете, что этот труд отражает эпоху. Ваш исследовательский, литературоведческий интерес к этой теме понятен. А что поразило вас в этом дневнике как читателя? Насколько он показался вам актуальным сегодня? Насколько это время похоже на наше?
– Актуальность… Уточню: я не литературовед, я историк философии. И мой интерес к этому замечательному тексту – а это такой читательский дневник – был именно философским… Ведь и молодым Кюхельбекером двигал, в том числе, философский интерес; и от его интереса зажегся мой. Кюхельбекер читал; читал очень много; «читал все на свете книги», как скажет о нем директор Лицея Энгельгардт. Выписки делал в алфавитном порядке, отсюда и название «словарь»; так его назвал Пушкин: «И наш словарь, и плески мирной славы…» Если говорить о философии, то это выписки из Платона, Бэкона, Локка, Руссо. Из книги Франсуа Рудольфа Вейса «Принципы философии, политики и морали»; сейчас это, к сожалению, почти забытый труд, а тогда, в 1810-е, был философским бестселлером. Еще много и литературных, и исторических выписок. И читается все это очень интересно. Если мысль жива, она всегда актуальна.
– Когда впервые возник замысел этой книги? Как вы к нему пришли?
– Я уже лет пятнадцать работаю над темой «Пушкин и философия его времени». Не какая-то «мудрость Пушкина» или «философия Пушкина», как это часто подается, а то, какие философские тексты входили в круг его чтения, обсуждались в литературной среде его времени. А время было очень философско-насыщенным, 1810-е – 1820-е; Георгий Флоровский назвал его «философским пробуждением». Пушкин в своих автобиографических набросках под 1811 годом пишет: «Философические мысли». А ему двенадцать лет тогда было. Кюхельбекеру, когда он заполнял «Словарь», тоже не было двадцати… Понятно, что изучая круг литературно-философских интересов Пушкина, нельзя было пройти мимо «Словаря». И вот лет десять назад, в читальном зале отдела редких рукописей, в Пашковом доме, когда мне только принесли эту рукопись… начинаю выписывать, и чувствую, что не могу остановиться. Что выписывать нужно буквально все. Тем более что полностью он никогда не был опубликован; только где-то четверть всех выписок.
– А почему «Словарь» так долго не был опубликован?
– Его начал публиковать Юрий Тынянов, рукопись первоначально хранилась у него. В Российском государственном архиве литературы и искусства, в тыняновском фонде, хранится машинопись; судя по всему, Тынянов не сам печатал, кому-то поручил; много неточностей. Тынянов собирался публиковать «Словарь», причем дважды, в 1930-е. Но что-то не складывалось. В самом «Словаре» много такого, что не вписывалось в «революционно-освободительный» образ декабризма; много о Боге, о вере; сочувственные выписки об Александре Первом. В сороковые эта рукопись вообще могла исчезнуть, как лицейская переписка Кюхельбекера: архив Тынянова остался в блокадном Ленинграде. После смерти Тынянова «Словарь» хранился у Вениамина Каверина; писатель был женат на сестре Тынянова. Потом «Словарь» оказался в Ленинке. Тут им снова заинтересовались; известный пушкиновед Борис Мейлах в начале семидесятых собирался его целиком издать. И снова публикуется только небольшая часть, а весь «Словарь» не выходит.
– Вы работали над этой книгой несколько лет. С какими главными трудностями вы столкнулись во время ее подготовки?
– Прежде всего, чисто «географическая» трудность. Я живу в Ташкенте, а рукопись в Москве. К счастью, в «доковидное» время в Москве бывал часто, каждый свободный момент бежал в Дом Пашкова. Само место совершенно замечательное, и люди там работают знающие, внимательные… Потом, если о трудностях, то это, конечно, почерк Вильгельма Карловича. Видно, как он начинал вести «Словарь» таким аккуратным, школьным почерком; выписывал им из трактата Псевдо-Лонгина «О возвышенном»… А потом почерк портится. Приходилось по десять раз все проверять; до сих пор холодок неуверенности, все ли верно разобрал. Но, конечно, главная трудность: атрибутировать источники выписок. Кюхельбекер чаще всего ограничивался указанием имени автора, под выпиской. Предыдущие публикаторы этим и ограничивались. Но ведь важно понять, откуда выписка взята, издание; то есть, каков был его круг чтения Кюхельбекера в Лицее, вообще, круг чтения лицеистов. К тому же многие выписки – например, из Вейса, Руссо, Шиллера, которых он читал в оригинале, это были его переводы на русский; юный Кюхельбекер выступает тут и как переводчик. Определять источник бывало очень сложно, даже в наш век даже в наш век интернет-поисковиков и электронных библиотек (да и отцифровано и доступно далеко не все); Кюхельбекер не особенно заботился о точности выписок, допуская, особенно в переводах, значительные отступления. Источник некоторых выписок мне так и не удалось установить. Например, на букву «В», «Вероисповедания»: «Известно, что <существует> 1300 различных вероисповеданий». Откуда это он взял? Вопрос. Может, кто-то из читателей вашей газеты подскажет.
– Почему этот «Словарь» стоит прочитать не только литературоведам и историкам?
– Повторюсь, он очень увлекателен; это как страничка на Фейсбуке, куда вы каждый день выписываете что-то интересное из прочитанного. Только организовано это в словарном порядке. Это вообще такая была интеллектуальная мода среди молодежи, конца восемнадцатого – первой половины девятнадцатого. Например, по такой же системе делал с конца 1784 года выписки в старших классах Штутгартской гимназии юный Гегель. Тоже в словарном порядке, с указанием наверху страницы предмета или темы.
– Кюхельбекер был и масоном, и декабристом. В чем вы видите главные точки соприкосновения этих движений?
– У Кюхельбекера был сильный политический темперамент, это и по «Словарю» чувствуется, много выписок на тему политики. Вообще, очень сложно все и с масонством, и с декабризмом; очень они внутри разнообразные. Если очень сильно обобщить, то масонство – это было интернациональное, общеевропейское движение, оно давало возможность прямых интеллектуальных, культурных, политических контактов с Европой. Декабризм же – опять же, огрубляя, потому что он очень сильно трансформировался… Декабризм мне видится, прежде всего, национальным, условно говоря, «русским» проектом. Например, одна из обсуждаемых тем в декабристской среде было «засилье немцев». Как эти две линии совмещались в голове Кюхельбекера? Он чувствовал себя, безусловно, русским патриотом. И одновременно очень хорошо помнил о своем немецком происхождении: глубоко интересовался немецкой литературой, да и по выпискам это чувствуется: «Любовь немцев к русским», «Германцы»…
– Есть мнение, что прототипом Чацкого в комедии Грибоедова был Кюхельбекер. Вы поддерживаете эту точку зрения?
– Какие-то черты Кюхельбекера, возможно, были использованы. Так же, как и Пушкиным – в образе Ленского. Или молодым Гоголем в его первой поэме «Ганс Кюхельгартен». Но прототипом Кюхельбекер не был ни там, ни там, ни там.
– Кюхельбекер известен также как издатель, у него был собственный журнал «Мнемозина». Во многих своих интервью вы подчеркиваете, что для литератора, особенно начинающего, очень важно читать журналы вроде «Нового мира» и «Знамени». На что в этом случае стоит обратить внимание при чтении журнала «Мнемозина»?
– «Мнемозину» они издавали вдвоем с Одоевским; просуществовала она всего год, 1824-й. Последний выпуск вышел из-за задержки в двадцать пятом. И тем не менее, смотрите, осталась в истории литературы. Почему? Очень высокая планка отбора, очень разнообразное содержание: и поэзия, и проза, и публицистика, и философия… Читать, наверное, лучше все: это дает совершенно иное, живое понимание истории литературы. Одно дело скажем, прочесть пушкинское «К морю» («Прощай, свободная стихия…») в сборнике его стихов или собрании сочинений, где присутствует такой налет хрестоматийности… И другое дело – в четвертой книжке «Мнемозины», где оно было впервые опубликовано, по соседству с другими напечатанными там текстами. Это совершенно другая оптика.
– Близка ли вам поэзия Кюхельбекера? Что из его работ могли бы выделить?
– Поэзия Кюхельбекера – пожалуй, последнее, что мне близко в нем. Для меня он, прежде всего, несостоявшийся, точнее, недосостоявшийся литературный критик, мыслитель. Думаю, если бы не Сенатская, не ссылка – именно Кюхельбекер стал бы нашим «Белинским». Критического чутья и образованности у него было точно больше, чем у «неистового Виссариона».
– Вот как говорил о Вильгельме Кюхельбекере один из лицеистов Модест Корф: «Он принадлежал к числу самых плодовитых наших (лицейских) стихотворцев, и хотя в стихах его было всегда странное направление и отчасти странный даже язык, но при всем том, как поэт, он едва ли стоял не выше Дельвига и должен был занять место непосредственно за Пушкиным». Очень серьезное заявление, вы с этим согласны? О какой странности в языке говорит Корф, на ваш взгляд?
– Беда Кюхельбекера как поэта – он был глуховат. В детстве перенес золотуху, одно ухо почти не слышало. Для поэта это не меньший дефект, чем для музыканта. И это чувствуется в его стихах, начиная с лицейских, – особенно если сравнить их с ранними стихами Пушкина, у которого музыкальность, напевность так и пульсируют. Это время триумфа итальянской оперы, уже Батюшков распахнул русскую поэзию для итальянской музыкальной просодии… «Звуки италианские!», восхищался им Пушкин. Кюхельбекер не слышал – его внутреннее, поэтическое ухо – не слышало этой напевной игры гласных. Он рос из, условно говоря, немецкой просодии, с ее оркестром шипящих и свистящих…
– «И кюхельбекерно, и тошно» – это, по-вашему, как? Какой синоним мог бы точно подойти в этом случае?
– Да, «нам не дано предугадать…» Не думаю, что Пушкин, когда он писал эту хулиганскую эпиграмму, мог предположить, что это станет крылатой фразой… Наверное, тогда бы не стал это писать, он любил своего лицейского товарища. Да, в Пушкине, конечно, горел – как это называл Мандельштам – «рыжий огонек литературной злости». И литературное соперничество было. Но Пушкин был добр. Добр и великодушен…
– Ваш творческий псевдоним – Сухбат Афлатуни? Что вам дает эта маска, отстраненность от собственной личности в литературе? Известный литературный критик Галина Юзефович предположила, что так вы подчеркиваете, что не принадлежите к русской прозе, «на том основании, что ее якобы нет». Есть ли здесь правда?
– Ну, вот и на меня дорога свернула, а хотелось еще о «Словаре»… Кстати, странно, что Кюхельбекер не взял себе псевдоним. Как скажем, его старший литературный современник Востоков, который был Остенек… Действительно, псевдоним дает некоторую отстраненность; для меня – возможность существовать в двух очень разных качествах – и исследователя литературы, и ее непосредственного «работника», погруженного в поток. И «ихтиолога», и «рыбы». Что касается самого псевдонима, то он был взят давно и немного случайно… Но с тех пор прирос.
– Вы любите говорить про время поэтов и время поэзии. 1810-1820-е годы, к которым был обращен ваш исследовательский интерес, называете классическим временем поэзии. А что происходит сейчас? Какая из эпох вам ближе?
– Сейчас время поэтов. Очень много хороших, замечательных поэтов. Но широкого интереса к поэзии нет; молодежь не захлебывается стихами. Опять же, ставлю гиперссылку на пушкинский Лицей. В первом выпуске было 29 лицеистов. Это был, напомню, не «филфак»; готовили управленцев, административную элиту. А выходит трое профессиональных литераторов, Пушкин, Кюхельбекер, Дельвиг… Илличевский, еще один лицеист, не стал литератором, но тоже жил в Лицее литературой, стихами.
– В одном из своих интервью вы отметили: «то же самое ощущение ушедшего моря, сухого дна возникает не только в Ташкенте, не только в Узбекистане, но и во многих других местах». В каких?
– В любых. Я, конечно, имею в виду ушедший Союз; он создавал ту степень неудобства жизни, затрудненности быта, которая толкала людей в чтение, в литературу, в книги. Современная жизнь удобнее, сытнее… «скоростнее». Но мне в ней как-то неуютно; интеллектуальный неуют. Особенно когда бываешь в бывших «окраинах», а теперь уже давно самостоятельных государствах, откуда еще и русский язык уходит, почти ушел. Сухое дно. Так, отдельные «лужицы» русской речи. Снова вернусь к Кюхельбекеру: то, что возникло тогда в Лицее, это был во многом результат смены парадигмы в образовании. С 1810-х оно стало вестись, это было обязательно, на русском. Не на французском, как до этого в пансионах. И возникает тот самый «золотой век».
– Чтобы быть хорошим (профессиональным, беспристрастным) литературным критиком, нужно ли при этом быть состоявшимся писателем и поэтом?
– Нет, конечно, не обязательно. Белинский не был ни писателем, ни поэтом. Из сегодняшних известных критиков – Наталья Иванова, Галина Юзефович, Анна Жучкова, Ольга Балла; это «чистые» критики… С другой стороны, Пушкин был прекрасным критиком, Блок, Мандельштам. Да и Кюхельбекер… А сколько еще критических, литературных имен пушкинской эпохи, недооцененных, недоисследованных. Иван Мартынов, единственное исследование о котором выходило более ста лет назад. Или Семен Раич. Возвращаясь к вашему вопросу: главное, чтобы критика была качественной, профессиональной, яркой, чтобы интересно читалась. А кто ее пишет, поэт, прозаик, или ни то, ни другое – это уже дело десятое.
Досье УГ
Евгений Абдуллаев – поэт, прозаик, критик. Проживает в Ташкенте. Художественные произведения публикуем под псевдонимом Сухбат Афлатуни. Евгений Викторович преподает в Ташкентской Православной Духовной семинарии, является главным редактором журнала «Восток свыше».







 Выбор читателей
Выбор читателей






Комментарии