Камлание Демниме
Уткнув нос в пушистый хвост, свернулась озябшая лайка. Тяжело взлетел гусь – рисунок не проработан, только намечено движение: одно крыло так, другое чуть вниз. Снег. Снег… А где-то, за белыми холмами, несколько точек – стадо диких оленей прошло стороной.
Эти старые карандашные наброски долганского художника Бориса Молчанова представлены на выставке в Дудинском Доме творчества. Да, таков мир северного человека – среди природы, среди озер, рек, лесов и бескрайней тундры. “Не для каждого моя работа: тысячи примет надо знать, десять тысяч хитростей разгадать, сто тысяч шагов сделать от стойбища к стойбищу”.
Сегодня у холстов Молчанова совсем другой характер. Нарочито примитивный. “Этим я хочу передать теперешнее состояние народов Севера, влачащих все то же жалкое существование, что и сто лет назад. Положение еще более ужасает”.
Местная “экономика” всегда стояла “на трех китах”: рыболовстве, оленеводстве и пушном промысле. Но кто сегодня знает изделия из уникального белого песца? Деликатесные виды рыб – сиг и муксун, чир и омуль? Доставка с мест промысла абсолютно нерентабельна. Денег нет, работы нет. Многолетние вредные выбросы Норильского горно-металлургического комбината вывели из хозяйственного оборота миллионы гектаров охотничьих пастбищ. Стадо домашних оленей сократилось почти втрое. Идет полный откат от коллективной формы хозяйствования к семейно-родовой, к патриархально-феодальным отношениям. Этнопедагогика, судя по всему, становится прикладной наукой. И курс “Уроки предков”, разработанный заслуженным учителем России Маргаритой Поповой для национальных школ Таймыра, оказывается как нельзя более актуальным.
кабинет ? 1
Как-то раз Маргарита Ивановна Попова возвращалась по Дудыпте с верховьев Севера. На этой речке километрах в пятнадцати от поселка Усть-Авам жил знаменитый шаман Демниме. Решили заехать. Тот каким-то образом угадал желание гостьи и устроил для нее сеанс “показательного” камлания. (Камлание – это способ общения с духами, оно может длиться от нескольких часов до нескольких суток). Нганасанские шаманы камлают – поют свои заклинания – на старинном и очень красивом языке, который до сих пор затрудняются расшифровать ученые.
– Со мной был мой ученик Валера Чунанчар, тоже нганасанин. Он и переводил. Демниме испрашивал духов-помощников защитить свой народ (а шаман, как правило, стоит во главе какого-то рода или стойбища), уберечь молодежь от пьянства, предотвратить болезни и беды. Песня звучала непрерывно. А закончилось это “путешествие” словами: “Тебя будут охранять духи Демниме. Хорошо ходи по земле”.
В Дудинке говорят: никто лучше М.И.Поповой, почетного гражданина Таймыра, стоявшей у истоков создания письменности малочисленных народов Севера, не знает местного уклада жизни, проблем национальной школы. Маргарита Ивановна, заместитель директора окружного института усовершенствования учителей, двадцать лет заведовала окружным управлением образования. Проехала весь полуостров – от моря Лаптевых и Карского до самых отдаленных поселков. Не раз проводила отпуск в тундре: Николай Попов, ее муж, – первый долганский журналист, писатель и переводчик. Сегодня вышли уже две книжки его переводов Библии для детей на долганском; в издательстве “Просвещение” – школьный учебник долганского языка для 3-го класса, написанный в соавторстве с женой. Совсем не случайно начинался институт усовершенствования (какие-то шесть лет назад!) с кабинета национальных проблем образования. А политика “первого кабинета” определилась концепцией национальной сельской школы.
Округ четвертый год работает по Базисному учебному плану регионального значения (для национальных школ и дошкольных учреждений). В вариативную часть внесен как обязательный предмет “Культура малочисленных народов Севера”, родные языки.
– Как показала практика, большинство педагогов слабо представляют себе, что значит внедрение национально-регионального компонента в учебные планы. У нас эта работа ведется по трем родственным направлениям, – говорит Маргарита Ивановна. – Основа основ – это, понятно, родной язык и все, что с этим связано. А связано с этим как раз создание курсов, учебно-методических комплексов, программ, предметов этнокультурного содержания. И, конечно, мы вынуждены в срочном порядке заниматься корректировкой программ, адаптацией их к нынешним условиям.
В округе открыта 31 школа, где учатся 8026 учеников. Из них 2165 – дети коренной национальности.
Раньше существовала своя технология обучения ребятишек коренной национальности: подготовительный класс, или, как его называли, нулевой, для каждой народности букварь на родном языке и обязательно на русском. Для школ со смешанным составом – свои учебники. Отдельно – пособия для изучения русского, учитывающие специфические особенности северных языков (без чего русскому не научишь), и “Книги для чтения”. Все эти учебники хороши были еще и тем, что там растолковывались “непонятные” слова, расставлялись ударения (потому что интонирование речи у северных народностей совершенно не похоже на наше).
Так что у М.Поповой и ее команды впереди большая работа. Хотя будущее время тут не годится. У Анны Ивановны Дюкаревой, например, уже разработана чудесная программа по природоведению – она апробировалась на курсах для учителей начальных классов сельских национальных школ. И тем не менее этим школам пока еще приходится работать по старым пособиям. “Слышала, ваш институт не рекомендует им переходить в начальной школе на учебные планы 1-4. Что, это так принципиально? – Конечно, подготовительный класс для этих детей необходим: он готовит к восприятию программ первого класса. Там специальный устный курс – 54 разговорных урока! Хотя дети из некоторых районов округа приезжают учиться со знанием русского, владеют им, как правило, на бытовом уровне, повторяя за родителями характерные ошибки. Ведь многие привычные нашему уху звуки отсутствуют в их родных языках”.
Иными словами, речь идет о том же четырехлетнем начальном образовании – по схеме 1-3 плюс подготовительный класс. Но здесь больше часов отдано и русскому языку, и родному. “В позапрошлом году Минобразования “спустило” нам такой учебный план – мы просто за голову схватились. Ну что такое один-два часа в неделю на родной язык?! – Позабудут? – Если бы: у нас есть такие поселки в Хатангском и в Дудинском районах, где дети почти не разговаривают на своем языке. А в Волочанской школе, например, ребята начинают изучать родной язык заново – как иностранный. И минимум часов тут недопустим: исчезнет язык – исчезнет народность”.
Для выполнения “программы-минимум” М.Попова привлекла творческих специалистов коренной национальности. Каждый, по определению, отвечает за свой маленький, но практически “целинный” участок”.
Светлана Нереевна Жовницкая стала автором Букваря и программы по нганасанскому языку (при том, что алфавит нганасанского языка утвержден совсем недавно); “Книги для чтения в 1-м классе”.
Дарья Спиридоновна Болина работает над Букварем и программой на энецком языке; написала программу факультативного курса литературы народов Севера и Дальнего Востока.
Ирина Павловна Сотникова – автор учебной программы по долганскому языку; создает учебник внеклассного чтения для 1-2-х классов.
Михаил Александрович Ненянг занимается пособиями для школ и дошкольных учреждений по преподаванию ненецкого языка.
И вся эта индивидуальная работа – по сути своей коллективный труд, “по главам” восстанавливающий систему педагогических воззрений малочисленных народов Севера. Следуя этой логике, мы неизбежно “выйдем” на этнопедагогику. Система формирования личности, способной выжить в экстремальных условиях тундры, что там лукавить, давно разладилась. Разрушение “старого мира” не обошлось без активного вмешательства “ньучча”. “Русское изобретение” – пришкольные интернаты при всех своих достоинствах на десять месяцев в году разлучали детей и родителей. Вот как описывает “аргиш” (переезд с одного места стойбища на другое) в школу-интернат Николай Попов. “У всех родителей находятся веские причины, чтобы оставить ребенка дома. И родовому совету приходится беседовать с каждым, растолковывать, для чего нужно учиться. Но и это не помогает: “Я своего Уйбана рыбу ловить научил, охотиться на песца научил. Я стариком стал, теперь он кормит семью. Тундра большая, холодная, только сильные могут ездить по ней. В школе Уйбан совсем забудет, чему я учил его”.
Железный человек?
…На Таймыре расстояние от А до Б измеряют не в километрах, а в часах летного времени. От окружного центра до Хатанги – 800 км, до Диксона – 500, до Караула, райцентра Усть-Енисейского района, – чуть поменьше 200… И непогоду определяют скорее не “крепостью градуса”, а скоростью ветра. Случается, решение простенькой школьной задачи “на движение” затягивается на сутки и недели. А если работаешь в организации “окружного значения”, ты должен летать. Много летать. Впрочем, любая командировка в тундру оборачивается риском.
Елизавете Ивановне Пичкал╙вой, заместителю начальника Таймырского управления образования, хорошо знаком звук металлического скрежета льдин под ножом ледокола: часами тряслись на вездеходе с идущим рядом по фарватеру ледоколом. “Зевнет” водитель – рискуешь оказаться в ледяной воде. По шесть-семь часов плыла на лодке до какой-нибудь поселковой школки, переживала шторм. А шторм на северной реке – страшное дело: волны высотой с двухэтажный дом. Бортом подставишься – сметет мгновенно…
В такие минуты человек думает о том, что успел. Елизавета Ивановна шесть лет заведовала Усть-Енисейским роно. И каждый год открывала по классу. В Байкаловске школы вообще не было. Открыли – в обычном доме в трех классах учили 25 человек. Теперь это школа-комплекс. В Воронцове вместо трех классов стало девять. В Поликарповске открыли школу всего для семи учеников… Многим казалось, она занимается глупостью, разбазариванием денег: один интернат мог бы решить все проблемы. В самом деле, содержание детей соответствовало всем нормативам: обеспечение четырехразовым питанием, одеждой, учебниками и т.д. Конечно, детей, выхваченных из тундры в “цивилизованные условия”, приходилось долго переучивать (другой образ жизни, быт, питание, традиции). Конечно, многие так и не нашедшие себя в городе, вынуждены были вернуться. Реадаптироваться в тундре было еще сложнее. Так и болтались “между небом и землей”.
…Сегодня большинство малокомплектных, открытых Е.Пичкал╙вой и ее коллегами, не функционируют. Учатся дети, не учатся? Как вообще живут? На места не доберешься: теперь расстояние от А до Б на Таймыре измеряется не в часах летного времени, а в рублях. А пришкольные интернаты в поселках по своим функциям больше напоминают учреждения соцобеспечения – дети приходят сюда поесть, обогреться, ну и заодно поучиться.
Реализация регионального компонента позволила М.Поповой “поднять неподъемное”: разработать “сквозной” учебный курс “Уроки предков”. Это, как ясно из объяснительной записки, первая попытка “интегрировать этнокультурное содержание в школьное образование, заложить основы национального самосознания благодаря осознанию, возрождению и поддержанию этнических традиций, духовной и материальной культуры малочисленных народностей Таймыра”. Подготовлены учебники для 1-6-х классов. В 7-8-х школьники из Дудинки, Караула, Волочанки, Усть-Авама, с Хатангского Озера изучают уже упомянутый курс “Культура малочисленных народностей Таймыра”. Изданное в двух частях учебное пособие М.Поповой “История культуры малочисленных народностей Севера” вызвало большой интерес не только в округе, но и в некоторых регионах России. В старших классах будут знакомиться с “Семьеведением” – опять же на основе этнографического подхода.
Что же изучает этнопедагогика? Вот как отвечает на этот вопрос Маргарита Попова:
– Во-первых, педагогику определенной этнической общности. Во-вторых, особенности психического склада народности, процессы формирования этих особенностей и национального характера. И, конечно, устойчивые представления о любви, семье, детях и родителях. Эти представления синтезировались и находили свое выражение в комплексе педагогически продуманных, практикой проверенных правил и норм поведения, обычаев и традиций, которые позволяли человеку выжить.
– Для воспитательных традиций северных народов характерна общая черта: любой взрослый, если в том есть необходимость, становится педагогом для своего или чужого ребенка, – рассказывает Маргарита Ивановна. – Пусть он будет в этой роли всего минуту – не в этом дело. Главное – это готовность дать малышу такой добрый урок. В этой естественной школе, в этой педагогической среде нет разницы между “учебой” и свободным временем.
Конечно, такие “воспитательные минуты”, единые по содержанию, у разных народов отличаются по форме.
Система этнопедагогики нганасан, например, направлена на воспитание человека, который мог бы жить в гармонии с природой и людьми. И хотя издревле нганасаны – непревзойденные охотники, охоту они никогда не превращали в простое убийство. “Не показывай своего превосходства над природой, а то она тебе отомстит”, – говорил отец сыну. Сын оленевода знал, что станет оленеводом, что оленевод – “самое главное существо после оленя”. Кочевка оленеводов требует много знаний и большого опыта, чтобы правильно выбрать пастбище, богатое зеленью, ягелем, близкое к воде, обдуваемое ветром. Эти знания родители старались передать ненавязчиво, в привычной обстановке, во время домашнего чаепития, охоты, рыбалки, гостевания.
Любовь Ненянг, ненецкая поэтесса, ставит в пример своего брата, который часто брал на промысел четырехлетнего сына: “Там, в тундре, у лунки ли, летом ли на реке, на промысловом угодье или в оленьем стаде, собираясь в дорогу, брат не просто рассказывал, а показывал, как поставить сеть, какие места лучше для промысла, где чаще обитает рыба. Он учил, как запрягать оленей, как делаются ездовые нарты, как ремонтировать сети, лодку… И Вавлю еще подростком знал, где весной водится одна рыба, а осенью – другая, когда приходит пора выставить капканы на зайца, песца, что предвещает то или иное природное явление”.
Уже в 8-9 лет мальчики кормили всю семью. Если же им сопутствовала охотничья удача, то авторитет мальчика в семье неизмеримо возрастал, с ним начинали советоваться.
Девочки 10 лет умели выделывать шкуры, камус, чинить, шить одежду, обувь, украшать ее. Они готовили пищу, участвовали в ее заготовке на долгую зиму, помогали в разборке и сборке чума, упаковке вещей при перекочевках.
Ирина Павловна Сотникова рассказывала Маргарите Ивановне Поповой об этих перекочевках: “Сколько же их было в жизни моих родителей! И каждый раз при этом открывается что-то новое, неожиданное, живешь ожиданием радости и новизны. Эти детские впечатления остались на всю жизнь.
К очередному аргишу готовятся загодя. Мужчины собираются за мирным столом у самого уважаемого старейшины, и за чашкой чая идет неторопливый разговор о хлопотах аргиша: о маршруте, о том, кому доверить ответственное и почетное дело прокладывать дорогу другим, у кого острые глаза, чтобы безошибочно найти ягельные места, удобные стоянки. Последнее совсем непросто. Надо предусмотреть многое – и чтобы топливо найти поблизости, и лед наколоть, и от ветра укрыться.
За мужским разговором с любопытством следят притихшие дети, с жадностью впитывая житейскую науку, о которой ничего не скажешь ни в одной книжке. Никто из них не вмешивается в разговор старших – это считается верхом невоспитанности, невежливости. Если что-то заинтересует мальчишку, он обязательно дождется, когда уйдут гости, отец вернется домой, чтобы расспросить его обо всем. Никто из нас не спрашивает, что последует за решением мужчин о завтрашнем дне, каждый знает, что ему делать, чем заняться.
Утро назначенного дня начинается задолго до рассвета. Плотно поев, мужчины собираются перед балками: один из них с верной лайкой пойдет за стадом и приведет его к дому. Дети готовят упряжь, сани. Те, кто постарше, уже вооружились маутом – каждый из них знает, какого оленя к каким саням привязать. А это целая наука! Есть ведь сани грузовые, женские, те, на которых стоят балки. Кажется, что и олени это знают.
В балке идет другая работа: с верхних полок снимается посуда, чтобы не разбилась в пути, готовится лучина, чтобы на новой стоянке сразу разжечь печь, освобождается место для люльки малышки, она будет спать всю дорогу: и тепло в балке, и не трясет.
Все готово: олени впряжены, все, кто был на улице, заходят домой, переодеваются, мужчины выкуривают по последней трубке, и каждый направляется к своим саням .
Время аргиша тоже зависит от многих факторов: времени года, погоды, состояния пастбища и оленей, здоровья людей…
Наконец, караван двигается в путь. Кажется, что в этом огромном белом пространстве, где тонут все звуки, нет и не может быть никаких дорог и тропок, но аргиш уверенно ведет самый опытный и толковый. В этот раз путь прокладывает для всех мой отец, и это наполняет меня гордостью”.
Отношения между юношей и девушкой – тоже дело нешуточное. Вот как описывает их этнограф Юрий Симченко: “Любовь в Арктике очень хлопотное дело. Там не пробудешь на улице со своей девушкой лишних десять минут. Всю любовь ветром выдует. Особенно худо обстоит дело весной. Ночь светлая, как день, тундра ровная, как ладонь. Все просматривается на многие километры. Негде уединиться влюбленным. Однако дело не совсем безнадежное. На старших разрешается и даже полагается не обращать никакого внимания во время ухаживания. Если будешь придерживаться определенных правил. Правила эти сложны чрезвычайно. Но старики нганасаны не думают их упрощать”.
Совершеннолетие девочки нганасаны определяли следующим образом: если могла наколоть дров на топку для очага, значит, она готова к семейной жизни. Невесту юноше подбирали из другого рода. Засылали сватов. Спустя три дня сват с женихом приезжали в чум невесты, оставались ночевать. Невеста, не раздеваясь, ложилась рядом с женихом. Если не раздевалась в течение нескольких недель, лежа рядом с ним, это означало, что девушка испытывает к жениху отвращение. В этом случае родители забирали дочь и возвращали калым.
… – Чум? Ну это что-то вроде легкого шалаша или палатки, дымной, дырявой, продуваемой всеми ветрами.
– Вот и я так думала, – улыбнулась Маргарита Ивановна. – Но мне в нем очень понравилось. Во-первых, это просторное жилище. На самый большой чум, например, идет до 60 шестов. А высота – около шести метров. Летом там прохладно: нюки – покрытия из оленьих шкур – приподнимают, создавая естественную вентиляцию. И практически не бывает комаров. А зимой…
– Вот уж не хотелось бы там оказаться – за Полярным кругом в полярную ночь!
– Просто вы не укрывались песцовым одеялом.
О чуме мы вспомним не случайно: “Жилище” – тема урока “Уроки предков” в 1-м “А”:
Связали шест
С другим шестом
Потом еще с одним шестом,
Покрыв оленьей шкурой…
1-я дудинская средняя стала экспериментальной площадкой, где апробируется этот новый учебный курс. Так называется и новый предмет, который преподает молодой педагог Виктория Сайбовна Момде. Сама – долганка. В классе в основном – дети-ненцы. Еще пару месяцев назад они, привезенные из дальних поселков, не знали ни слова по-русски. По этой причине 1-й “А” – класс повышенного внимания. А вот 1-й “Б” – русскоязычный. Маргарита Ивановна приходит на каждый урок в оба класса: “Нужно посмотреть, как будут усваивать материал те и другие. Попросила Викторию к концу года сделать рабочую тетрадь с заданиями: преподаватели из дальних поселков, отрезанные безденежьем от окружного центра, оказались без всякой методической поддержки. По этой же причине мы с Генриеттой Николаевной, ведущей 1-й “Б”, готовим “Книгу для учителя”.
…А 1-й “А” не спешит приступить к строительству чума: выбор “стройплощадки” в тундре – дело непростое. Почему?
…Заговорили мы о ставшей притчей во языцех медлительности северных народностей. Маргарита Ивановна снова улыбнулась:
– Представьте себе стойбище оленеводов. Может показаться странным, что это стойбище напоминает аэропорт, где иной раз просидишь несколько суток в неведении. И вдруг совсем неожиданно, по внезапному зову диктора в спешном порядке нужно мчаться на посадку. Так и в чуме оленевода – не знаешь, когда тронутся в путь. Спрашивать бесполезно. Хозяин пожмет плечами и ответит: “Тунарка” (потом). И вдруг внезапно слышишь: “Мер, мер, хэсь тара” (быстро, быстро, ехать надо).
Все живое на Севере постоянно, медленно кочует, подчиняясь единому закону движения: весной – на север, осенью – на юг. Монотонно, в течение года совершают стада оленей в поисках корма замкнутый путь к берегам Северного Ледовитого океана и назад. Вслед за ними движутся волки, лемменги, песцы. И, конечно, человек. Жизнь при таких перекочевках, да и вообще в тундре, идет размеренно, спокойно и не связана, как в городе, минутами, часами и даже сутками. Каждый месяц важен в этом ритме, в этом круговороте времени, пространства. Пастбищ значительно больше, чем времен года. На каждый день – свое. Год для оленевода делится не на недели, а на дни и часы.
И воспитание детей у северных народностей веками осуществлялось в соответствии с природными условиями: все живое борется за свое существование, приспосабливаясь к среде обитания. При этом в нужных ситуациях медлительность сменяется реактивностью. (Вспомним поведение охотника: вот он выслеживает добычу – движения его свободны, размеренны и даже замедленны. Вот он неторопливо подкрадывается к зверю, замирает. И вдруг быстро взводит курок). Сама природа заставляет человека на Севере, что называется, семь раз отмерить и один раз отрезать.
Анна Ивановна Дюкарева рассказывает, что в Усть-Портовской и Носковской тундре новорожденных закаливали следующим образом: мать раздевала ребенка, поглаживая попеременно то холодными, то нагретыми над огнем ладонями ножки, ручки, спинку. В 40-50-градусные морозы крохотные дети ползали по чуму полуголыми. Старики говорили: “Пусть закаляется, узнает норов мороза и сразу поймет, что жизнь не сахар”. С первого же дня родители не реагировали на плач ребенка, и тот быстро привыкал к требуемым нормам поведения. Поэтому какой бы многодетной ни была семья, все дети вели себя спокойно, без шума, без крика и слез. Многие исследователи северных народностей считали их железными людьми. До недавнего времени маленькие северяне никогда не болели ангинами и простудами. А сегодня все дети Севера нуждаются в периодическом оздоровлении.
Имя –
первое нежное слово
…”Чум” идеально интегрирован в классную среду обитания. Первоклассники рассаживаются вокруг, закрывают глаза и переносятся домой, к маме.
…У оленеводов чаще всего дети рождались в холодные зимние месяцы. Отправляясь в путь с новорожденным, не завешивали люльку: “Пусть смотрит, запоминает тундру, речку, повороты, потом придет сюда – все знать будет”. И с первых же дней ребенок “запоминал” черты прекрасного. Его укладывали в колыбель, сделанную искусным мастером. Ненцы, скажем, украшали ее национальным орнаментом, узорами по металлу, которые своим блеском забавляли малыша.
Имя детям давали не сразу. Полагая, что оно должно иметь огромное влияние на его здоровье, судьбу, жизненный путь.
Светлану Нереевну Жовницкую шаман Тубяку, принимавший роды у ее матери, назвал Дизар, что в переводе с нганасанского означает “солнечный лучик”, так как появилась она на свет с первым солнечным лучом.
В ненецких именах – история человека, его рода. По имени узнавали, каким по счету был ребенок в семье, был ли он желанным, какие на него возлагались надежды. У чукчей именем могло стать первое нежное слово матери, обращенное к ребенку. В давние времена сколько жителей было в тундре, столько имен. А в ненецких семьях и сегодня – сколько детей, столько колыбельных. Родители сочиняли для младенца особую, “личную” песню, которая сопровождала его всю жизнь. Валентина Няруй вспоминает: “Моей старшей сестре мама подарила ритмичную и нежную песню, сочиненную под звуки полозьев нарт, под цоканье оленьих копыт. А слова и мелодия младшей сестренке напоминают звучание реки, где прошло ее раннее детство. Атмосфера семьи, нежной и творческой, остается с человеком на всю жизнь. И наверное, поэтому мы не забываем свои колыбельные, матерей, дома”.
У учеников Виктории Сайбовны Момде имена самые привычные – Сережи, Наташи, Миши. Но учителя русского и литературы 1-й дудинской, психолога Ларису Вениаминовну Батаеву имена в заблуждение не введут. Она давно наблюдает за детьми Севера: “Они другие – по своим психофизиологическим, биологическим и генетическим признакам. У этих ребят совершенно иное восприятие мира”. Прирожденные эстеты, они видят, например, 86 оттенков белого цвета. Птица летит, мы раздумываем: зачем? почему? куда? Для человека, рожденного на Севере, у которого правое полушарие развито лучше левого, это просто красивая картинка в мире:
– спокойствия,
– звуков,
– движения.
Все сосуществует и прекрасно дополняет друг друга. “И не надо, – убеждена Лариса Вениаминовна, – никого переучивать, ломать, лишая перспективы индивидуального развития. И уж тем более разделять по национальному признаку. Печальный пример тому – та же 1-я дудинская. Восемь лет назад в ней учились и жили дети коренной национальности. И я помню толпы подростков, которые приходили к концу дня, чтобы подраться с интернатскими. А потом стали принимать всех. И буквально через год “национальные разборки” сами собой прекратились. Дети оказались умнее взрослых”.
…Все совещания и семинары гороно старается проводить в 1-й школе. Хотя похвастать перед гостями нечем – здание старое. Но – очень теплое. А это, что там ни говори, на Севере фактор номер один. Ну а попав, оказываются в капкане, из которого быстро не выберешься. А ученики 1-й и не намерены.
Классом ? 1 для учеников из ненецких и долганских поселков (а здесь живут и учатся около 220 детей коренной национальности) в прямом и переносном смысле стал кабинет творчества. На уроках его руководителя, учителя изо В.Рандина звонок предпочитают “не слышать”. И после уроков опять идут в изостудию к Владимиру Алексеевичу.
– У “коренных детей” уже заложены гены творческих способностей, развито свое, характерное только для них видение окружающей действительности. Взгляните: несмотря на скупость линий, однообразие цвета и сюжета (тундра, олени, солнце), работы эти притягивают своей законченностью, виртуозностью рисунка животных, перспективного построения пейзажа, – и Владимир Алексеевич выводит нас…в коридор. Да, именно здесь выставляются первые работы прибывших “с точек” учеников. Эти ребята немногословны и неулыбчивы, и хотя совсем не мешают учителю вести урок, просто его не слышат. Где они в эти минуты? Чтобы лучше понять своих новых учеников, коллеги В.Рандина нередко заглядывают на “вернисаж”…
– Мечтой моей жизни было стать художником и научить этому других. Художником-профессионалом я не стал, но стал педагогом-художником.
Работая с 83-го года в сельских школах Таймыра, В.Рандин увлекся орнаментами коренных народов Севера, объездил всю тундру, работал со старыми мастерами – изучал, отбирал, систематизировал национальное декоративно-прикладное искусство. В итоге Владимир Алексеевич Рандин создал учебную программу по изобразительному искусству для национальных школ округа, разработал специальный раздел по изучению орнаментов малочисленных народов Таймыра, спецкурс “Орнаменты”.
Живя среди снега и льда, таймырские ненцы очень любят в одежде и предметах быта два цвета – белый и темно-коричневый – снег и земля. Узор ненецкого орнамента строго геометричен и состоит из прямоугольников, зигзагов, углов, ромбов. Ненцы трактуют эти рисунки как живое воспроизведение близкой им северной природы. Так, ряды темных симметричных отростков, возвышающихся над зубчатой полосой, носят название “заячьих ушей”, сплошные асимметричные уступчатые фигуры – “оленьи рога”…
Орнамент наносили практически на все – одежду, утварь, орудия труда, и в свою очередь на изобразительном творчестве северян лежит отпечаток их производственной деятельности. “Говорящими” были и цвета. Так, палитра долганского орнамента (а долган называют аристократами тундры) строится на сочетании шести основных цветов. Это черный и белый, синий и красный, желтый и зеленый. Превалируют красный – олицетворение представления народа о солнце и синий – бесконечность бытия.
Любимые цвета эвенков – неяркие красный, желтый, зеленый. Геометрические знаки – крестообразные фигурки на эвенкийском нагруднике – изображение гагары. Эта северная птица считалась у эвенков символом любви и семейного счастья. Она так же, как и аист, всего один раз в жизни выбирает себе пару.
Вот и нганасаны используют черный, красный и белый, потому что такая окраска оперения – у краснозобой гагары, от которой, по преданию, произошел род нганасан. (Грань между человеком и животным у северных народов настолько стирается, что некоторые животные считались превращенными людьми или даже предками людей).
Малочисленные народы Севера создавали свое самобытное искусство, используя все, что было под рукой, что давала природа. На уроках В.Рандина ребята часто работают с такими же незатейливыми материалами. Ну какую художественную ценность на первый взгляд имеют полоски бересты, кусочки меха, кожи, белые волосы оленя, сухожильные нити? В руках – нет, не северных мастеров, а обыкновенных школьников – они также превращаются в произведения искусства. А колористическое решение изделий определяет подбор материала. Ученики В.Рандина – постоянные победители многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Выпускники без всякого труда поступают в художественные училища.
Ученики Владимира Эйновича Сигунея, руководителя детского хореографического ансамбля “Таймыр”, также привыкли к роли победителей на всевозможных художественных конкурсах и ассамблеях.
Недаром на Севере говорят: что слышим, то и поем. Обо всем, что видят, ребята рассказывают движениями. Не один такой рассказ довелось увидеть в исполнении учеников 1-й школы.
– Этот “Аркан” я привез из тундры специально для своего взрослого коллектива, – говорит Владимир Эйнович. (“Хейро” В.Сигунея знаменит на весь Север. – Е.К.). Так дети у меня, можно сказать, вырвали идею из рук и начали под музыку что-то изобретать. Вы их услышали?
* * *
Сын Демниме Денсимяку записал Маргарите Ивановне Поповой шаманское заклинание. Начинается оно словами:
Моя земля, не умирай
Ради маленьких детей…
Народы Севера называют малыми, потому что численность их невелика. Представить трудно, что целый народ можно расселить в двух многоэтажных домах. Своеобразный народ: не плачут, когда хоронят близких, не ликуют, когда встречают друга. “Но внутри нас бьется, как и у всех людей, легкоранимое, горячее и такое недолговечное сердце”. Холсты Бориса Молчанова пока еще говорят с нами. Дальше – тишина…
Елена КОМАРОВА
Полуостров Таймыр
Фото Анатолия СМИРНОВА






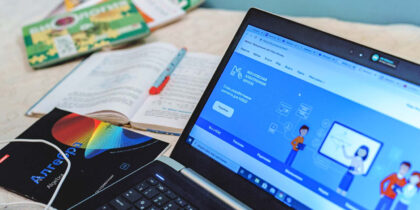
 Выбор читателей
Выбор читателей






Комментарии