Уроки для баллов или уроки для смыслов?
Продолжение. Начало в №7, 8, 11, 13, 14
Характерно, что, когда ученики этой группы обращаются к Богу, каким его видит Катерина, Он предстает перед ними не как беспощадная карающая сила, а как воплощение высшей чистоты и высшей нравственности, тех представлений о жизни, которые Катерина приняла как свое личное, сокровенное. А как же тогда быть со страхом Божьим?

Обращаюсь к проповеди митрополита Антония Сурожского «О страхе Божьем и исповеди». («Община XXI век», «Православное обозрение», 2004, №3): «Мы часто употребляем в молитвах выражение «страх Божий». И нам надо совершенно ясно понимать, что страх Божий ничего общего не должен иметь с боязнью. Мы не можем принести Богу никакой радости, если будем просто бояться его и со страху, по боязни сколько-то стремиться к исполнению его воли».
Анна Дорофей о страхе Божьем говорит так: «Бывает страх рабский, когда человек боится наказания и потому, пресмыкаясь, старается творить волю Божию, только чтобы избежать наказания. Есть другой страх: страх наемника, который старается творить волю своего хозяина, господина в надежде, что получит какую-то награду. И есть третий вид страха, который должен быть свойствен нам, верующим: это страх, как бы не огорчить любимого и любящего. Этот страх все мы знаем в той или иной мере по отношению друг к другу. Мы стараемся не ранить своих друзей, не огорчать тех, в любви которых уверены и кого любим сами, пусть даже очень несовершенно».
Рассказываю о статье Александра Меня «Мудрецы Ветхого Завета» («Знание – сила», 1996, №6). Там есть очень важное для нас размышление о том, что есть страх Господень. Может ли страх Господень пониматься как боязнь наказания за грех? Совершенно исключить такое понимание, говорит Мень, было бы неправильно. Но это не главное, ведь для библейских мудрецов Ветхого Завета «боязнь возмездия соответствует лишь примитивной, начальной стадии жизни». Суть в другом: страх Господень есть вовсе не ужас перед карающей десницей, а скорее боязнь потерять Бога – отдалиться от Него… На языке Библии «боящийся Бога» – это человек, проникновенный благоговением. «Богобоязненность» рождается от священного трепета, который возникает в сердце перед ликом Сущего».
Приношу на урок книгу папы Иоанна Павла II «Преступить порог надежды». «Людям всех времен, а современным особенно, нужно молиться о страхе Божьем. Но страх этот ничего общего не имеет с рабской боязнью, чуждой Евангелию парадигмой «господин – раб». Это страх сыновний. Наиболее полным выражением такого страха является сам Христос. Христос хочет, чтобы мы боялись всего того, что оскорбляет Бога. Он хочет этого потому, что Он пришел сделать человека свободным. Человек освобождается через любовь, ибо любовь – источник привязанности к всякому благу».
В этом направлении, но уже применительно к Катерине из «Грозы», идут размышления и в школьном учебнике Ю.В.Лебедева. «В ком есть страх, в том есть Бог, – говорит ей народная мудрость. «Страх» искони понимался русским народом как обостренное нравственное самосознание. В Толковом словаре В.И.Даля «страх» трактуется как «сознание нравственной ответственности». Такое определение соответствует душевному состоянию героини. В отличие от Кабанихи, Феклуши и других героев «Грозы» «страх» Катерины – внутренний голос ее совести».
Повторю: проверка знаний, любое углубление уже изученного возможно лишь в том случае, если оно включается в новые сцепления, тем самым обогащает представления учащихся и о самом произведении, и о творчестве писателя, и вместе с тем о мире и самом себе. И все это не имеет ничего общего с бесконечным повторением, закреплением того же самого, уже пройденного, выученного. И когда я вижу сборник заданий для подготовки к ЕГЭ, в котором 50 вариантов абсолютно однотипных заданий, мне становится нехорошо.
Скажу при этом о незыблемом для меня принципе. Для меня сочинение, письменный или устный ответ на вопрос не отчет о выученном, а свидетельство того, чему ученик научился, это еще один шаг в его продвижении к более полному пониманию. Больше того – это всегда коллективное исследование. И пусть часто в полной мере истину откроют не все, но именно на уроке анализа сочинений или при обсуждении сделанного это добытое не всеми делается достоянием всех. При этом все теперь еще и еще раз поймут лучше, потому что они сами приняли участие в ее поиске. Поэтому они особенно хорошо оценят то, что нашли их товарищи, нежели то, что сообщил им учитель. В науке есть такой принцип: отрицательный результат есть тоже результат. И когда в методической литературе я встречаю только правильные ответы, только успешные варианты выполнения заданий, я такой методике не верю.
Главное пространство урока – это пространство, которое начинается после вопроса и вовсе не всегда заканчивается ответом, окончательным и обязательным для всех. Естественно, мы сейчас говорим не о физике, математике или орфографии, а о литературе. Это всегда поиск: движение, размышление.
Островский. «Бесприданница». Спрашиваю: «Почему все-таки Лариса поехала с Паратовым и его компанией кататься по Волге, к тому же перед самой свадьбой с Карандышевым?»
Самые разные ответы, мнения, точки зрения – и не знаешь, так понимают Ларису или так переносят на нее свое личное понимание ситуации. «А почему не покататься с мужчиной, который тебе нравится?» «Она выходит замуж. Он женится. Зачем же отказывать себе в удовольствии, может быть, в последний раз встретиться?» «Для того, чтобы окончательно порвать с Карандышевым и не выходить за него замуж». «Она поверила в то, что ей говорил Паратов: «Я проиграл больше, чем состояние, я потерял вас… Еще несколько таких минут…. Я брошу все расчеты, и уже никакая сила не вырвет вас у меня». «Лариса соглашается на поездку по Волге, она опьянена речами Паратова, которого любит и который является для нее идеальным мужчиной. Она возлагает надежды на Паратова: «Да разве можно быть в нем неуверенной?» «Кнуров и Вожеватов разговаривают о том, что Лариса просто так не поехала бы на Волгу: «Значит, она надежду имела на Сергея Сергеевича, иначе зачем он ей». Они предполагают, что без обмана здесь не обошлось и что «обещания были определенные и серьезные». Мне здесь остается только добавить, что сами они хорошо понимают, что Паратов «миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не поменяет: «Что за расчет?» Но ведь сама Лариса не знает, жертвой какого циничного обмана она стала. «Вот что говорит матери, решившись ехать: «Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге». Чувствует, что все плохо может кончиться. И все же: а вдруг?»
Я сейчас читаю последнюю книгу Евгения Водолазкина «Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью». Там хорошо сказано и о том, в чем сейчас разбираемся мы с вами: «Текст – это еще не произведение. Произведение – это текст в восприятии читателя. Именно поэтому глубокие литературные произведения никогда не бывают равны себе. В каждый следующий момент они уже другие, потому что читатель другой. Он видит в тексте вопросы, которых, возможно, не видел сам автор. И наоборот – авторские вопросы новому читателю уже не понятны… Любая книга только наполовину создается автором – вторая половина создается читателем. По большому счету, сколько читателей, столько книг». Это во многом так. Почему во многом, а не абсолютно прав Евгений Водолазкин, я скажу несколько позже.
Я взял выписки, сделанные мною за последние десятилетия. Это то, что писали о «Горе от ума».
А.Баженов говорит о том, что «Чацкий вне традиции, вне русской культуры. Чацкий, декларирующий свою любовь к народу, в жизни будет только турист, наблюдающий Россию из окна кареты, и в русской деревне будет лишь дачником».
Александр Солженицын публикует свое эссе о «Горе от ума», которое он написал в 1955 году в Ташкенте. И называется оно «Протеревши глаза». Солженицын суров по отношению к Чацкому: «Да, Чацкий незауряден острым умом, но незауряден и бессердечием. Во имя света Чацкий ослепляет, но во имя тепла и сжигает».
Путь был проложен, и идущие вослед будут теперь нападать, клеймить, разоблачать.
Передо мной вырезка из «Литературной газеты» за 19‑25 января 2005 года. Игорь Золотусский «Прости, Отечество!». Почитаем.
«Принято считать за аксиому, что в «терзаниях» Чацкого (в его горе) виноват «свет». Свет объявил его сумасшедшим, «свет» и изгнал его из Москвы.
Но внимательное чтение комедии убеждает, что вину по крайней мере надо поделить поровну. А то и львиную долю отдать Чацкому. Потому что «горе от ума» – это горе, которое несет ему собственный ум…
Чацкий в «Горе от ума» – приезжий, чужой. Он чужой для Москвы, и Москва для него чужая, ибо «свое» щадят, за «свое» болеют, «свое» не изничтожают. <…>
Есть ум ума, говорил Толстой, и есть ум сердца. В том, у кого ум ума, нет жалости к ближнему. Ум холоден и горд. Ум сердца мягче, участливей и в конечном счете нужнее жизни, нежели его высокомерный собрат…»
Золотусский понимает Скалозуба, принимает его слова: «Я, князь, Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам». Для него фельдфебель надежнее Вольтера, поскольку Вольтер расшатывает, а фельдфебель бережет».
Но бережет ли полковник Скалозуб, который откровенно скажет: «Довольно счастлив я в товарищах моих, вакансии как раз открыты: то старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты»? Тем более что мы знаем другого полковника той войны: «Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам».
Но это еще не все. Откроем первый том книги, которая называется «Литературная матрица. Учебник, написанный писателями». Прочтем аннотацию: «Современные писатели и поэты размышляют о русских классиках, чьи произведения входят в школьную программу. Издание предназначено для старшеклассников, студентов вузов, а также для всех, кто интересуется литературой». На дворе 2010 год.
Автор главы о Грибоедове – писатель Сергей Шаргунов. Будем читать вместе. Сегодня мы все читаем в совершено ином контексте, нежели в котором мы еще недавно учили «Горе от ума». Не говоря уже о том, когда мы сами учились.
«Чацкий действительно в своем роде сумасшедший. Софья, распустившая слух, была недалека от правды…
Чего он добивался? Был ли у него хоть один позитивный проект человеческого бытия и общежития? Чацкий предтеча Октября 1917‑го? «Шумите вы и только?» – спрашивает он февралиста Репетилова с явной интонацией: «Караул устал»… Чацкий разбудил нигилиста Базарова и русских футуристов. А корни его бунта стоит искать в нетерпимости протопопа Аввакума или освободительных безумствах Стеньки Разина…
Нет ничего более лицемерного, чем среднестатистическое сочинение о том, что Фамусов – зло, Скалозуб – зло, Молчалин – зло и даже Софья – зло, а Чацким следует восхищаться. Притом что весь окружающий мир полон именно нормальных Фамусовых, Молчалиных и Скалозубов. Софья – вообще редкостно мила.
Чацкий – панк. Много их среди золотой молодежи, рвущих на себе рубахи от Gucci».
Заканчивалось головокружение от романтики революции, через которое прошло и мое поколение. Из программы выкинули «Мать», «Хорошо!», «Разгром», «Белеет парус одинокий». Меня самого шпыняли за то, что я провожу уроки по роману «Как закалялась сталь». Под раздачу попало и «Горе от ума». Ведь писал же Герцен, что «Чацкий шел прямой дорогой на каторжные работы». Ведь писал же Ленин, что декабристы разбудили Герцена. Ведь получила же М.В.Нечкина сталинскую премию за монографию «А.С.Грибоедов и декабристы». Изменения в атмосфере жизни не могли не коснуться и школы, и самих школьников. Правда, школа обладает мощной силой инерции. Проникало в ее стены что-то новое, но сильна была и сила инерционной зависимости.
Где-то в девяностые годы одна моя знакомая учительница провела антипедагогический эксперимент. Разрезав листы тетради на четыре кусочка, она попросила после уроков остаться только девочек. Обещала им, что никогда и никому не скажет в школе о том, что попросит их сейчас сделать. А попросила она на этом кусочке написать только одну букву – начало имени того героя из «Горе от ума», за которого бы они вышли замуж. Преобладала буква М (Молчалин). Было две буквы С (Скалозуб), одна Ф (Фамусов). И ни одного Чацкого.
Только не нужно путать две вещи: то, что ученики думают, и то, что пишут, когда речь идет об отметке, оценке, баллах. Летом 1998 года я работал в комиссии по проверке сочинений, представленных для награждения медалями. Среди тем была и такая: «Чацкий и Молчалин». У меня сохранились сделанные тогда выписки. Приведу три из них.
«Именем Грибоедова открывается одна из блестящих страниц в истории русской литературы. Грибоедову удалось создать свой неповторимый мир, и этот мир запоминается на всю жизнь яростным противостоянием «века нынешнего» и «века минувшего». Защитником «века нынешнего» выступает в комедии А.А.Чацкий, страстный борец против самодержавия, представитель самого передового круга дворянской молодежи. Молчалин же олицетворяет «уходящий век покорности и страха». В столкновении мировоззрений этих двух героев и состоит истинный смысл комедии».
«Основная проблема, затронутая в пьесе, – противоречие между «веком нынешним» и «веком минувшем», то есть прогрессивными элементами, движущими общество вперед, и регрессивными, тормозящими его развитие».
«Сюжетная основа произведения строится на конфликте молодого дворянина Чацкого с фамусовским обществом. Чацкий понимает, что причина бедственного положения народа в крепостничестве, угнетении, деспотизме. Он клеймит это общество, погрязшее в ханжестве, разврате. Молчалину и ему подобным безразличны судьбы Родины и народа. Не будучи человеком этого общества по своему положению, Молчалин по своим нравственным принципам является его типичным представителем».
Это претенденты на медаль.
Мы хорошо помним, чем были декабристы для наших поколений. Это Пушкин:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Лев АЙЗЕРМАН
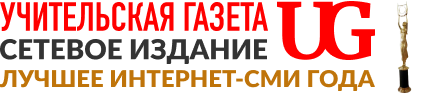










 Выбор читателей
Выбор читателей


Комментарии