На сцене московского театра «Современник» в рамках фестиваля «Фабрика Станиславского» прошел показ спектакля по повести Льва Толстого «Казаки» под названием «Беглец» (именно так хотел изначально озаглавить повесть и сам писатель), поставленного в петербургском Театре имени Ленсовета режиссером Айдаром Заббаровым. Постоянным читателям моей рубрики это имя уже знакомо – не так давно я писал о своих впечатлениях от его «Соловьева и Ларионова». Но если в том случае материалом для спектакля послужил текст нашего современника – писателя Евгения Водолазкина, то на этот раз Лев Толстой – почти такое же хрестоматийное «наше все», как Пушкин.
В спектакле Заббарова Толстой – острый и ранящий своей искренностью. Не за счет иронического отстранения, сочинения сюжетных поворотов или визуальных эффектов. За счет проникновения в смысл. Но – и мне кажется важным подчеркнуть это именно в педагогическом издании – проникновения абсолютно личного: для того чтобы снять кожу с Толстого, режиссер и актеры снимают ее и с себя. Без собственной личности – ее неровностей и порезов, прорывов и несовершенств, без болезненного ощущения ее роста – ничего не выходит. Формальный прием сам по себе содержания в материале не вскроет. Как не вскроет его и уважительное репродуцирование сказанных когда-то раньше правильных слов. Я говорю сейчас и об образовании, в котором (мне это кажется важным) не сработают сами по себе ни инновационные сингапурские технологии, ни список 100 обязательных книг и предписания о том, как их нужно понимать. А то, что сработает, – самое непростое и в то же время единственно важное. Но, впрочем, я отвлекся от спектакля.
Зрители располагаются с двух сторон от деревянного помоста, по диагонали рассекающего пространство Другой сцены «Современника». По нему из одного угла в другой беспрестанно перемещаются персонажи толстовской повести в ритме бегущей и неостанавливающейся жизни. А если останавливающейся, то навсегда, как пуля, застрявшая в спине у старого казака Ерошки (Александр Сулимов): сколько бы времени ни прошло, он чувствует, как она перекатывается у него внутри. Действие спектакля и начинается с такой «остановки» – казак Лукашка (Иван Батарев) убивает абрека и сбрасывает его тело в ящик, из которых, если приглядеться, и состоит помост. В конце спектакля в том же самом ящике окажется и его тело – абреки отомстят. Но это будет уже только тело: то, что в Лукашке есть живого, кроме тела, будет убито раньше, когда его невеста Марьяна (Лидия Шевченко) станет отвечать на ухаживания приезжего юнкера Дмитрия Оленина (Александр Крымов). Трижды он будет пытаться увести ее, неподвижно застывшую перед юнкером, и трижды она не поддастся ему, и тогда Лукашка вопьется в Марьяну, желая будто выпить ее всю до дна в эту секунду.
Как режиссер ощущает внутреннюю жизнь этих казаков 150‑летней давности, их стремления, их чувства, их боли! И не только ощущает, но и переводит на сценический язык, овеществляет, делает зримыми и осязаемыми, врезая в зрительскую память. Одна из, пожалуй, самых запоминающихся сцен: Оленин и Лукашка устраивают состязание в том, кто кого перепьет. Садятся друг напротив друга и пьют сначала из рога, который подносит юнкеру казак. За ним появляется одна огромная бутыль, потом вторая, третья. Оленин, не желая уступать, захлебывается и проливает большую часть на себя, но пьет, пьет, пьет, обреченный на поражение и не желающий признавать свою слабость. Сцена эта идет, кажется, минут пять, если не больше, и, в общем-то, все, что в ней происходит, – это молчаливый поединок двух мужчин. Однако внимание зрителей она приковывает именно внутренней наполненностью происходящего – невысказанного, висящего в воздухе между героями и столь плотного, что оно физически ощутимо. А кроме того, очень личного. И рифма, арка: Лукашка может выпить до дна сколько угодно бутылей, но, припав к своей невесте, оторвется от нее, почувствовав, что здесь он бессилен.
Моментов таких, образных и личных (а образ, думается мне, и не может быть иным, как и образование), сшитых режиссером в общее целое, в спектакле множество. Оленин, приехавший на Кавказ, для того чтобы вырваться из столичной жизни и стать таким, как казаки, – вольным, свободным, не быть любимым, а любить: «Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» – лихо бьет комаров, садящихся на его обнаженный торс, так, что от ударов остаются кровавые пятна. В финале истории он зубами вопьется в собственные руки так, что на них выступит кровь: когда станет ясно, что стать таким, как он хотел, невозможно, и все, чего он добился, – это уничтожение двух жизней: физически – Лукашки и духовно – Марьяны. Или, как говорит об этом сам Айдар Заббаров: «Главный парадокс в том, что герой повести, пройдя через эту историю, понимает, что от себя никуда не убежишь. Пока сам себя не перестроишь, мир не перестроится. Смысла убегать нет. Все в нас».
Форма физического существования героев здесь неотделима от содержания. Вернее будет сказать, эта форма и есть содержание. Мучительная физиологичность толстовской прозы, воплощаясь в сценические образы, и порождает те внутренние вопросы, которые ставит перед читателем автор. Вопросы, на которые сам он в отличие от своих последующих толкователей не имеет готовых ответов.
Только однажды очень аккуратно и пунктирно возникнет в спектакле современная аллюзия. В тусклом ночном свете раздастся звук переговоров по рации, крышка одного из ящиков откроется, из нее появится одетый в сегодняшнюю форму военный, проползет по помосту, взберется по столбу наверх и скроется. Так, легким намеком, впускает режиссер в свой спектакль одновременность существования прошлого и настоящего – ту тему, которая подробно будет разработана в «Соловьеве и Ларионове».
Толстовские пейзажные описания отданы здесь немой сестре казака Лукашки (София Никифорова), именно ее внутреннему слуху доступно то, что невозможно до конца выразить словами: «Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен…» – время вечности или же отсутствие времени, еще одна толстовская и вслед за ней заббаровская тема. Все мы со всеми нашими вопросами и тревогами рано или поздно будем заключены в эти ставшие тропой для наших потомков ящики. А солнце так и будет медленно заходить за кавказские горы…
Мой знакомый театральный гурман в антракте бросил: «Неужели режиссеру в таком молодом возрасте действительно интересно этим заниматься?», подразумевая, как я понимаю, определенную традиционность спектакля: звучание в нем нетронутого толстовского текста, казацких песен, визуальную аскетичность. Почему бы и нет? Мне думается, что в театре, как и в образовании, будущее за простотой и честностью. Только вот достигаются они не через безоговорочную канонизацию прошлого или безудержное его разрушение во имя неясного будущего. Через настоящее. Через разговор о нас самих, сомневающихся, неправильных, бегущих от себя самих и в чем-то самом главном остающихся беспредельно одинокими, но все же надеющихся на счастье…
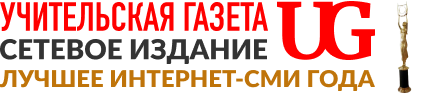










 Выбор читателей
Выбор читателей


Комментарии