«Евгений Онегин» оказывается и впрямь энциклопедией. Энциклопедией русской тоски, антологией саморазрушения. Страдание, причиной которому являются сами персонажи, представлено в тягучем, неторопливом спектакле Туминаса с чрезвычайной тонкостью и подробностью», – с восхищением пишут одни. Другие в постановке московского театра имени Вахтангова (режиссер – Римас Туминас; в ролях – Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Юлия Борисова, Вильма Кутавичюте, Ольга Лерман) видят искажение пушкинского замысла и даже издевательство над классикой. Что ж, из этого можно сделать вывод, что спектакль получился ярким, многослойным и неоднозначным. Мнение одного из наших читателей мы приводим ниже.

Не могу удержаться, чтобы не написать. Посмотрел спектакль Московского театра им. Вахтангова «Евгений Онегин» на Международном театральном фестивале «Балтийский дом», заплатил за билет 3000 рублей. И, знаете, жалко потраченных денег! Скажете, искусство материальными затратами не измеряется… А я не об искусстве собираюсь вести речь, а о современной нашей культуре. О культуре выпячивания, безапелляционного набивания себе цены – да еще и никак не соотносимой с результатами труда большинства людей страны. И ведь получается. Я в том смысле, что у нас большие, по меркам России, деньги платят не за труд, не за открытие, а за то, что ты, «ничего не знача», решился выставить себя в центр всеобщего внимания.
Это теперь так мило и современно – набивать себе цену: на столичные билеты, на налоги, на ремонты вечно разваливающегося жилья, на зарплаты чиновникам… Не стыдясь того, что ты, как бы это помягче выразиться, не оправдываешь надежд. Как вот в этот раз. Название спектакля – «Евгений Онегин», – и знакомый каждому школьнику текст обещали зрителям новое осмысление романа Пушкина. Вместо этого театр Вахтангова представил зрителям вариант новогоднего утренника для детей с разнохарактерными номерами из «звезд» телеэкрана. Не случайно, многие простодушные зрители каждый раз при появлении на сцене «кумиров» (или завершении ими монологов) разражались аплодисментами – независимо от настроя событий в эпизодах. Звучавшие весь спектакль длинные поэтические монологи из пушкинского романа не раскрывали смысл событий. О развитии действия (за которым, как правило, и приходим в театр) здесь говорить не приходилось: актеры только меняли места на сцене, чтобы надолго застыть в монологах. Увы, статичность представлений с «умным» текстом – такая же характерная примета нашего времени, как и отсутствие общественного движения в культуре России. Поэтому вполне естественно воспринималось то, как забывала текст вышедшая в одной из сцен великая Юлия Борисова: ведь не за словами на сцене следил зритель…
Что в результате у новых вахтанговцев получилось?.. Популярное шоу. Сродни многочисленным «мыльным» мелодраматическим телесериалам, которые каждый день дают возможность миллионам труженников отдохнуть у «ящиков» от мыслей о проблемах и сложностях жизни. Из мощных усилителей, как фон за экраном, весь спектакль лилась музыка – вариации на тему «Старинной французской песенки» (из «Детского альбома» Петра Чайковского). Но мир классических героев представлялся при этом не «прекрасно-старинным», а скорее устаревшим, безжизненно, формально упорядоченным. На это настраивало балаганное (увеселительное) разностилье: в костюмах, в музыкальных ритмах, в движениях танцев, в изображенных манерах. И даже в том, как часто сливались в один произносимый текст реплики героев и повествователя романа. Так в, спектакле муж Татьяны Лариной «сообщал» своему приятелю Онегину «всеобщие сентенции» вроде того, что «любви все возрасты покорны…» (совсем как в опере Чайковского!).
А над головами героев в это время высоко поднятые над сценой висели на веревочных качелях в позах ангелов в белоснежных платьях «московские жены». В предыдущей сцене эти жены были приехавшими в Москву невестами и двое мужланов, грубо их облапав, саблей отрезали им «символы девственности» – косы. Вот такая вот формулировалась «сэлявуха» – современная «семейная нравственность».
И главная героиня, Татьяна, представлена создателями спектакля «милым идеалом» не в качестве музы, вдохновляющей на искусство и любовь. Она являет пример женщины, которая захотела съесть банку варенья (как я понимаю, этот образ в спектакле символизирует потребляемые нами удовольствия жизни) не единолично, но решила и с пожилым мужем поделиться. Нашла, так сказать, свой идеал гармонии отношений. Не в образовании же ей, в самом деле, находить свое счастье?!
За чтением книг эту Татьяну мы не видим. Она обходится с книгами приблизительно так же, как создатели ЕГЭ: раскладывает их на полу под дождем и ждет, когда поднимающий страницы ветер «вдует» в ее голову готовое понимание всей жизни – по одной цитате и одному смыслу из каждой. Как все это характерно для нынешнего времени, не правда ли: считать, что главное, что соединяет людей – это желание жить сладко, беззаботно, потребительски…
Вы спросите: а какое Пушкин имеет отношение к такому идеалу? Вот уж он точно не мог задерживаться в «спокойной сладости» бытия:
«Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б — наслажденье
Вкушать в неведомой тиши…»
Да и Татьяна, как известно, «отдана» мужу, а не «отдалась» – потому что любовь ее, душевное спокойствие остаются за «рамками» брака… Так при чем здесь Пушкин?.. Без него ничего бы у авторов спектакля не получилось. В этом еще одна особенность современной российской культуры. Мы любим скандалы, видим в них проявление новизны и свободы, но при этом паразитируем на мировой значимости прежней русской культуры.
Сводить пушкинскую «энциклопедию жизни» к банальной, пошлой в своей торжествующей заурядности истории про то, как девушка, мечтающая выйти замуж, преодолев умствования и притворства мужчин, добивается, наконец, спокойного существования в браке – означает, разрушить смысл произведения (которое, напомню, так длинно на протяжении трех часов декламируют актеры). И не сам этот идеал пошл, а то, что он утверждается у нас теперь безоглядно и не к месту.
Итак, новой версии романа Пушкина в спектакле нет, ведь нельзя назвать версией сужение смыслов произведения до одного. И это несмотря на то, что спектакль чрезвычайно насыщен обилием метафорических сцен. Режиссер надеялся, очевидно, на то, что зритель увлечется множеством символов, как головоломкой, и сам найдет в них великий сокрытый смысл и «пророческие» аналогии. Но в спектакле метафоры не создают какого-то единого философского, сатирического или лирического настроя. Просто создатели «Евгения Онегина» попытались в стиле «Ералаша» придумать способы необычного, образного изображения каждой выбранной ими строчки. Этакая «игра с фантазией». Без цели. Ради развлечения зрителей…
И в связи с этим снова хочется сказать о деньгах за билеты. В Петербурге немало замечательных театров, талантливо волнующих зрителей спектаклей. И что же: судя по ценам, они в разы менее значительны, чем это московское «творение»?! Когда же мы в России научимся ценить труд, а не место, дело, а не лица?!…Почему-то кажется, что, когда и у зрителей будут зарплаты несколько большие, чем нынешние, тогда 3000 рублей покажутся им незначительной суммой… Возможно, что мысли сидящего в зрительном зале школьного учителя приобретут тогда какое-нибудь другое направление…
Илья Цейтлин, учитель литературы, Санкт-Петербург
Фото с сайта www.vakhtangov.ru
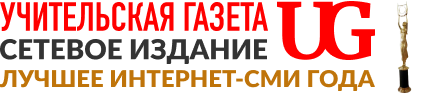










 Выбор читателей
Выбор читателей


Комментарии