Для чего мы тратим на ЕГЭ и ГИА деньги, нервы, человеческие ресурсы, заведомо зная, что по всей стране дети знают ответы, потому что они выложены в интернете. А вы, дорогие инициаторы и составители ГИА и ЕГЭ, не знаете этого?

Весь год я готовила своих девятиклассников к экзамену. И действительно: для детей это первое серьезное испытание. Для меня как для учителя было важно, чтобы дети были готовыми не столько к тестам (тестовая система ни меня, ни моих коллег не устраивает), а к изложению и сочинению – этому научить особенно трудно… Сейчас особенно трудно излагать и сочинять, потому, что уже есть определенные клише. Они выложены в интернете, их можно найти в пособиях, которые купили дети и родители. Вместо того, чтобы научить детей думать и формулировать свои мысли самостоятельно, мы даем им готовые формулы, потому что так им легче и проще. Кто-нибудь из составителей этих пособий задавался вопросом: зачем делать «как проще»?
И вот пришло время Ч… Весь год я говорила своим детям: «Вот придет время Ч…» Дети серьезно смотрели на меня… Кто-то верил, трудился и готовился, но, конечно, далеко не все. И правильно делали, как выяснилось…
Подозрения закрались уже после экзамена по математике, когда дети выходили с экзамена и доверчиво спрашивали нас, учителей: «А почему с ответами не сходится?»
– С какими ответами? – обескуражено просила я.
– Так в интернете же все варианты с решениями и ответами выложены, – отвечали мне дети.
И если на математике еще не все об этом знали, то на русском все уже были оповещены, воодушевлены и вооружены. Все хрустели бумажками, рассованными во все возможные карманы и прочие подходящие для этого места. Очень обидно, что вместо того, чтобы сосредоточиться, мобилизовать свои силы, дети думали о том, чтобы не выпали листки или чтобы не увидели телефон. Проформа при этом была соблюдена: школа с собакой проверена, из чужих школ дети приведены в ППЭ. ППЭ – это отдельная тема. Совершается великое переселение народов, едем на автобусах, бредем строем в чужие школы, на входе толпа, крики – хорошее начало экзамена, нечего сказать… Как бы мы ни старались их утихомирить, дети в толпе по определению говорить тихо не могут. Они волнуются и поэтому кричат. Чем больше волнуются, тем громче кричат.
При входе в аудиторию телефоны сданы. Но зачем телефоны, если есть шпаргалки с распечатанными ответами. Они шуршат в ботинках, в носках, в рукавах и подолах…Мы не можем за это упрекать детей. То, что дети подходили сразу после экзамена и говорили «Правильно?», протягивая нам листочки, я расцениваю как акт доверия учителям. Значит, они нас считают «по эту сторону баррикад», вместе с собой. Вы с нами вот так, а мы с вами – вот так. Мы приняли меры, и они вооружились. Конечно, они тоже соблюдали проформу. Говорили: «Нет, я не списывал, я только посмотрел». Но «посмотрели» все.
В результате, когда мы начали проверять, 16 баллов за тест были самым распространенным результатом. Даже при написанном из рук вон плохо изложении и при ненаписанном сочинении. За тест пять, за изложение два, за сочинение кол, в результате ставим в аттестат «удовлетворительно» по русскому языку. Такое ощущение, что тестовая часть придумана именно для того, чтобы «неудов» не было. Все успешно прошли программу 9 классов (или мимо нее), всем спасибо, все свободны. Поступайте дальше, куда хотите.
Ни для кого не секрет, что у нас есть дети, которые учиться неспособны. Они не способны постигнуть программу в объеме концентра, к которому нас склоняют. Определенный процент не может этого сделать в силу психо-физических причин. Потому что мама и папа пьют, потому что нет мотивации, лень, потому что интернет гораздо интереснее, потому что нет цели в жизни…Эти дети с пеленок растут такими. Их небольшой процент, но они есть в каждом классе. Но и них в этом году за тест 16 баллов!
И невольно мы задаем друг другу вопрос: за что боролись? Для чего мы проверяем друг друга с собаками, зачем мы переселяем народы из одной школы в другую, тратим на это деньги, нервы, человеческие ресурсы, заведомо зная, что по всей стране дети знают ответы, потому что они выложены в интернете. А вы, дорогие инициаторы и составители ГИА и ЕГЭ, не знаете этого? Но вы же умные, продвинутые во всех отношениях люди, вы-то знаете про открытое информационное пространство. Вы его хотели, вы к нему стремились? Вот вам, пожалуйста – получите результаты. Вы к ним готовы? Нет. Значит нужно признать, что на сегодняшний день у вас нет адекватных способов проверки знаний учеников.
Очень хочется задать вопрос государству: ты чего от нас хочешь? Я проработала в школе 25 лет. Работала и так, и с ускорением, и по одной методике, и по другой. И так и не поняла, что нужно нашим отцам-командирам? Правды государство не хочет, судя по всему. Но может быть, пришла пора назвать вещи своими именами? И коль уж мы гонимся за Западом в стремлении выстроить рейтинги, перевести все на баллы, то не пора ли дать возможность детям окончить школу с двойками?
Если молодому человеку 16 лет и у него «2» по всем предметам, пусть он выбирает, куда ему идти, пусть думает о своих перспективах. Так делается на Западе, единица и двойка там реальные, а не мифические оценки. Если мы будем ставить баллы, которых дети заслуживают на самом деле, может быть, мера ответственности родителей за будущее своих детей повысится? И уже не будет разведенных рук: «А я не знаю, что с ним делать?» Почему я должна знать, что делать с ребенком, которого вы родили? Почему и с остальными 25-ю я знаю что делать, а вы со своим родным не знаете? Родители и не хотят ничего знать, потому что государство изо всех сил стремится, чтобы они как можно дольше не снимали с глаз розовые очки. Ведь тройки же! Ведь переводят же из класса в класс, из средней в старшую школу, а потом – в высшую. А дитё таблицы умножения не помнит и одной фразы без ошибок не напишет.
Но я возвращаюсь к экзамену. На мой взгляд, уровень грамотности и владения речью проверяется только одним способом – путем создания собственных текстов. Не диктантом, конечно, он изжил себя, так как не способствует развитию, а мы, как известно, к нему стремимся. Но вот изложение с ответом на проблемный вопрос – это именно то, что нужно. Изложение нельзя списать. Или ты можешь изложить чужой текст, или нет. Или понимаешь смысл изложенного, или нет. И вопросы должны быть адекватными, прозрачными: «Почему Тема стал спасать Жучку?» – таким должен был быть вопрос по тексту Гарина-Михайловского (дети как только не писали: «В рассказе Гарина и Михайлова», «Гарина-Михайловича», «Михаила Гарина», «Гарина- Михайлова»). На мой взгляд, простой и понятный вопрос намного лучше, чем механический, псевдопроблемный, который был в этом году – «Как вы понимаете фразу: «Нельзя бояться, трусы только боятся, только тот, кто делает дурное, боится». В результате чего замечательный, простой, прозрачный текст стал для детей чужим и невнятным. Кто придумал такой вопрос и, главное – зачем? Надо осознавать, с кем мы сейчас имеем дело: с мало читающим поколением, перегруженным визуальной информацией. Задайте им прямой вопрос и пусть они докажут свою мысль текстом.
Ну и конечно, все учителя в один голос говорят о том, что критерии оценки в ГИА по русскому языку не соответствуют тому, что конкретно делают дети. Например, мы снижаем балл за то, что ученик «упустил или добавил одну микротему», смотрим, «произвел сжатие» или нет. А он, родимый, дай Бог, если пересказал и понял, о чем написал автор. Что ему сжимать, зачем сжимать? Кто ему объяснит, зачем мы сжимаем текст? Чтоб его упростить, выхолостить и обезличить?
Учитель дважды, трижды поставлен в ложное положение – при подготовке к экзамену, при его проверке и оценке. В одном из заданий, например, нужно было преобразовать словосочетание со связью управление в словосочетание со связью согласование. В одном варианте было «дно колодца», в другом «стена из досок». Я эти словосочетания восприняла, как сигнал от «наших», от тех, кто еще держит бастионы. Сигнал от тех, кому важно, чтобы было «колодезное дно», а не «колодчатое», «колоденное», «колодичное» – как только дети не писали… А стена оказалась и «доскная\”, и «досочная», и «досокная», только не дощатая… Но самое страшное, что наши ряды (ряды словесников, проверяющих работы) при этом дрогнули. Были те, кто предлагал засчитать ответ как правильный: «Форма-то образована. Давайте зачтем, ребенок не виноват, он не знает слова «колодец», но по сути он не ошибся». Мы стали спорить, причем дошло чуть не до слез. Молодые коллеги говорили: «Ну и что такого? Мы тоже не слышали такой формы, «колодезный» – это устаревшее слово…»
Можно, конечно, согласиться с тем, что дно «колоденное», а стена «досотная», но тогда надо отступить от всего, что нам дорого, от того, что для нас свято: от студеной колодезной водицы, от дощатого скрипучего пола, от великого и могучего, правдивого и свободного… Тогда нужно сдать бастионы. Тут и вспомнил кто-то из нас, ретроградов, строчку: «И нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, и быть может навсегда…»
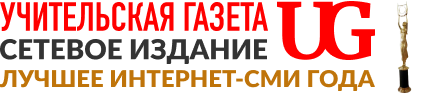










 Выбор читателей
Выбор читателей


Комментарии