Любые научные оценки субъективны, могут быть противоречивы и даже несовместимы. В них отражается как текущее состояние общественной мысли, так и личная позиция исследователя. Для творческого педагога обнаружить такое противоречие – находка, от нее прямой путь к интересной дискуссии на уроке и коллективному поиску истины.

В мае 2019 года «Учительская газета» опубликовала статью «Педагогический авангардизм Павла Блонского» в связи с его 135‑летием. Ее автор – заслуженный обладатель высоких научных титулов, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, председатель Научного совета по истории образования Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО Михаил Богуславский. С полным уважением к мнению своего коллеги предлагаю свою оценку вклада Блонского в российскую педагогику.
Блонский включается Михаилом Богуславским в «плеяду выдающихся российских ученых», по лекалам которого «происходил полный слом классно-урочной системы. Отменялось все – традиционные уроки, отметки, экзамены, каникулы». Сомневаюсь, масштаб Блонского мелковат для таких установок, слом шел по революционным лекалам Крупской: «Старое должно убить в корне». Был даже не слом, а разгром, но разве это повод для возведения разрушителей в «плеяду выдающихся»? Тем более к отмененной урочной системе мы снова вернулись, а экзаменам даже придали статус единых и государственных.
Блонский, замечает автор статьи, «вбирает в себя и интегрирует творческие достижения мировой и отечественной педагогики», что тоже не так. Напротив, известна оценка Блонским трудов своих предшественников (К.Ушинского, Н.Пирогова, Л.Толстого, В.Вахтерова), «скорей как педагогической публицистики, нежели научно разработанной системы педагогики». Подыгрывая высказыванию своего работодателя – наркома просвещения Анатолия Луначарского: «Нам как теоретикам пришлось выступать здесь на почти невозделанном поле», Блонский заявляет: «Собственно говоря, ее [педагогики] и не было в те годы: несколько глав, скорее из курса политграмоты». По Луначарскому – Блонскому российская педагогика зародилась лишь в октябре 1917 года. Словом, с залпа «Авроры».
Книга Блонского «Трудовая школа», пишет Михаил Богуславский, стала «теоретическим ориентиром в кардинальной трансформации школы учебы в трудовую коммуну». «1923 год – звездный час Блонского: предложенные им схемы программ ГУСа вызывают восторженную реакцию Луначарского». Факт верный, но пафос здесь совершенно излишен. Указанная выше книга – не «звездный час», а главный обвинительный приговор Блонскому, знак его перерождения из ученого в адепта (приспособленца) новой власти. Он стал первым, кто принял политический подряд на научное обоснование утопической идеи Крупской о «неизбежном превращении школы учебы в школу труда», поменял педагогику на марксизм, научные принципы – на идеологическую конъюнктуру.
Услужливо развивая революционные стратегии политических наставников, Блонский провозглашает: «Цель школы – производственное образование», чем забивает последний гвоздь в классический образ общего образования. За неимением смысла не будем детально комментировать «индустриально-педагогический проект» радикальной реформы школы Блонского, покажем лишь укрупненно его учебный план.
1‑й год. Простейшие перемещающие машины в данном предприятии.
2‑й год. Котел и паровая машина, двигатели водяные и воздушные.
3‑й год. Электрические двигатели и электродинамика.
А вот и незатейливая дидактика обучения детей. «Мы делимся на 12 групп. Каждой группе намечается, в какой день ей следует работать на каком станке. Теперь мы стараемся работать не как любители-дилетанты, не как люди, пришедшие только «понюхать» мастерскую; мы стараемся овладеть приемами заправского рабочего». Напомним, речь идет об учебном плане общеобразовательной школы.
С трудом преодолевая отвращение к зарубежному опыту, Крупская требовала идти дальше: «И школа Форда, и школы ДИНТА построены на самоокупаемости. Они дают всем ученикам настолько высокую оплату, что ученик может прокормить не только себя, но и семью». Блонский тут же научно обосновывает идею самоокупаемости школ за счет производимого учениками продукта. Надо ли удивляться, что после осуществленной в революционном экстазе реформы постановлением ЦК партии от 5 сентября 1931 г. «индустриально-педагогический проект» Блонского был оценен как «грубейшее извращение идей политехнической школы», а Луначарский и Крупская были далеко отодвинуты от образования (Луначарский – посол во Франции, Крупская – просто «вдова Ленина»). Все это не дает никаких оснований называть Блонского «наиболее прозорливым и убедительным создателем образа школы будущего», «талантливым футурологом», как это многократно указано в статье Михаила Богуславского.
Блонский поддерживал жесткие политические методы Крупской по преобразованию «школы учебы в школу труда», которые вызывали учительские протесты. Одна из тяжелых для Блонского дискуссий состоялась на совещании с петроградскими педагогами 20 января 1922 г. Учителя предупреждали, что «трудовой уклон лишит элементарную школу ее общеобразовательного характера, приведет к ее профессионализации, такая школа не сможет выполнить своих прямых задач – обучения ребенка чтению, письму и счету». Блонский ломал протестующих не педагогическими аргументами, а политическими установками, прежде всего открытым им «законом соответствия школы определенному общественному строю», на котором стоит остановиться особо. Попытаемся мысленно применить такой закон к любой научной сфере и получим очевидную глупость. Как может, например, развиваться физика или химия, если действие их законов привязать к «определенному общественному строю»? Педагогика, по Блонскому, может и должна!
Сменить точку зрения, доказывая правоту начальства, для Блонского было делом привычным. «В ранних работах Блонского, писал в предисловии к его избранным произведениям член Президиума АПН СССР Федор Королев, имеются высказывания о недопустимости партийности в педагогике. Верно, как и то, что с 1918 года Блонский меняет свою точку зрения, делит ее по классовому признаку на «буржуазную», «пролетарскую», «социалистическую» и тем самым демонстрирует типовой признак «политического раба» в науке, формирования педагогики страха. Миссия научной педагогики выше миссии любой идеологии, и если сегодня можно вынести какой-то урок из выполненного Блонским политического заказа, то он, скорее всего, именно в этом.
Облегченное признание собственных ошибок – родовая черта Блонского. С 1903 года он, убежденный и активный член партии эсеров, трижды подвергался арестам. Поддерживает педагогическую идею вождя анархистов Петра Кропоткина о будущей школе «комплексного» (интегрального) образования с одновременным обучением наукам и ремеслу. Впоследствии признает ошибочность таких взглядов, как и своих позитивных ссылок на Михайловского, Дьюи, Шаррельмана, других «представителей буржуазной идеологии».
«Летом 1917 г. я порвал с эсерами», – утверждал Блонский, чему верить нельзя. После февральской революции партия эсеров превратилась в ведущую политическую силу, достигла по численности миллионного рубежа, победила на выборах в Учредительное собрание, заняла ключевые посты в правительстве. Какой был резон для «очень наблюдательного, вдумчивого, обладающего острым аналитическим умом» (по Богуславскому) человека уходить из рядов партии-победителя в подпольную партию большевиков, лидеры которой прятались в эмиграции с неопределенной перспективой?
«С первых же дней Октября стал на сторону рабочего класса», – пишет Блонский уже в другом месте своих воспоминаний. Вот именно: с первых дней Октября, а не в феврале и не летом, что и подтверждает наши сомнения. Переход на иные позиции у Блонского был связан с довольно неожиданной для общества и для него октябрьской революцией того же года. Вот тогда, действительно, выбор был невелик: примыкать к захватившей власть партии большевиков или идти в тюрьму, где уже томилось немало его однопартийцев-эсеров. Блонский решил, что свобода лучше, чем несвобода, и здесь его можно по-человечески понять. Пришлось самокритично признать многолетнее «пребывание в партии эсеров как минус в своем политическом развитии».
Можно упрекать Блонского, а можно попытаться понять то суровое время «несвободы», когда творить можно было только в рамках «политического заказа». Но резонно и спросить себя: бывала ли российская педагогика в иной ситуации? В России за какие-то 70 лет (что это за срок для истории!) политический режим сменился дважды: в 1917‑м и в 90‑х годах. В первом случае задуманные отечественными классиками научные концепции образования были пущены под «слом». Во втором – коммунистические образовательные идеи подверглись «управляемому взрыву» (выражение экс-министра образования России Эдуарда Днепрова). И обе эти несовместимые по духу, разрушительные по факту реформы обслуживались педагогикой, продолжающей считать себя научной.
Известно, «революция пожирает своих детей». Последовавшая позднее кампания по развенчанию Блонского стала постыдным примером для нравственных принципов педагогики. Как только были смещены его политические покровители Луначарский и Крупская, на него обрушился поток грязной критики. (М.Богомолов, «О лженаучных взглядах профессора Блонского П.П.»; Н.Белоусов, «Извращения в работах Блонского (1919-1923). Подобная готовность научной педагогики «бить лежачего» не утрачена и сегодня.
Смена эпох – тяжелое испытание для науки, прежде всего гуманитарной, на нравственность и объективность. Кто-то его выдерживает, кто-то нет и, предав научные принципы, идет в обслуживание очередной политической доктрины. Вместе с Блонским можно назвать десятки фамилий ученых, также дрогнувших и обменявших педагогику на идеологию (А.Пинкевич, И.Демидов, Б.Комаровский, В.Струминский и др.). Но были и те, кто сохранил верность педагогике как науке (П.Каптерев, В.Вахтеров, А.Нечаев, В.Чарнолуский и др.).
В широком историческом плане дело не в Блонском, он важен лишь как пример раздвоения личности в несовместимых сферах – политики и педагогики, поучительный для нашего поколения ученых. В гуманитарных исследованиях трудно отстраниться от политического воздействия, немногие могут противостоять ему. Блонскому это не удалось. Да он и не пытался.
Анализируя наследие классиков, важно отделять науку от политического заказа, а педагогику от идеологии. Блонского, верно замечает Михаил Богуславский, «истово ненавидели педагоги русского зарубежья, считая его чуть ли не главным виновником уничтожения традиций отечественной школы». Странно, что этого до сих пор не увидели мы.
В следующем номере читайте очерк Игоря Смирнова «Куда ж без классовой борьбы? История трансформации педагогики в идеологию».
Игорь СМИРНОВ, доктор философских наук, член-корреспондент РАО





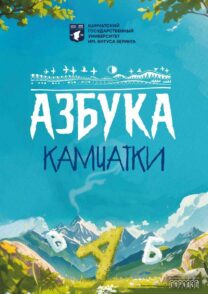

 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии