Если не знаешь, с чего начать, начинай откуда-нибудь: хоть с конца, хоть с середины, даже с самого начала, если знаешь, конечно, где оное находится. Нет? Тогда, подавив предательский вздох облегчения, скажи себе: что ж, коль уж не пишется… — и перейди к делам насущным, например, перекури, свари кофе, погладь собаку, сгони с клавиатуры кошку, потянись, откашляйся, протри глаза и — вновь уставившись в экран монитора, задай все тот же вопрос: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Я медлю: сказать хочется многое… — и боюсь: «о, если б голос мой умел сердца тревожить!» И все же…
Пока писались эти строки, пришло и решение проблемы начала: расскажу-ка я обо всем по порядку.
Каждый год в середине сентября мы с любимой ездим к Пушкину: губерния Псковская, Нижний, Полотняный Завод — следом за поэтом, его путями и тропами… Лет пять назад махнули в Болдино. Решили добираться через Саранск — оттуда до «наследственной берлоги» поэта сотня километров. Да вот незадача: автобусов до Болдина в Саранске мы не нашли, таксисты же слышали это сочетание звуков явно впервые в жизни. Нечто подобное мы испытали недавно в Турции — когда решили поклониться праху соотечественников в Галлиполи; к счастью, нашелся один самоуверенный чичероне, который не сразу, но доставил-таки нас куда нужно, а на прощание сказал, что благодаря нам узнал местонахождение русского мемориала: может пригодиться, хотя вряд ли, поскольку русских здесь за 25 лет работы он не видел… В Саранске тоже нашелся такой вот «открыватель новых земель» — плотный мужчина лет сорока, как оказалось, бывший учитель физкультуры. Услышав «Болдино», он позвонил паре-тройке приятелей и наконец радостно протянул:
— Ага-а-а… — и, улыбаясь, кивнул нам: мол, садитесь, поехали.
Наш вожатый сыпал анекдотами, прибаутками, присказками, случаями… Я в долгу не оставался — время летело. И вдруг — минут через 40 после старта — вопль:
— Вспомнил!
— ???
— Вспомнил — знаю я ваше Болдино!
Сердце радостно екнуло: вот оно, «не зарастет народная тропа»!..
— Был я там! Лет 15 назад ребят туда возил — на соревнования по волейболу.
Вот тебе и тропа… Как говорила моя бабушка, и смех и грех…
Ну а нынешней осенью мы поехали к Пушкину в Питер. Повезло: погода как на заказ — «светло, сине, разнообразно». Поселились же мы на Аптекарском острове в Вяземском переулке, по соседству с мастерской А.М. Опекушина. Отсюда — через Малую Невку — рукой подать до Каменного острова одного из самых «пушкинских» мест в Петербурге. «Памятник», «Как с древа сорвался предатель-ученик…», «Мирская власть», «Капитанская дочка» созданы здесь летом 1836 года. Догадывался ли поэт, что это последнее его земное лето? Бог весть, но то, что работал он так, будто каждое написанное слово, каждая строчка — последние в жизни, несомненно. Последние — предельно точные, взвешенные, выверенные всем опытом и мастерством, исполненные достоинства — честные. Отмеченные печатью торжественной отрешенности, они кажутся едва ли не бесстрастными — так велика сдержанная мощь посыла в будущее, завета нам всем, кто наследует это небо, эту землю, этот гордый язык… Завет — всегда о главном: о жизни и смерти, о свободе и рабстве, о красоте и безобразии, об отваге и трусости, о бренности и бессмертии, об истине и лжи, о чести и подлости, о величии и ничтожестве, о вере и фарисействе, о благородстве и холуйстве, о любви и презрении, о надежде и отчаянии. О том, на чем основано «самостоянье человека», о том, что сейчас принято называть высшими ценностями. О том, что предельно отчетливо и лаконично Пушкин сказал в своем «самом назидательном» стихотворении:
Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.
В этот приезд в Питер почему-то постоянно твердились строки «Из Пиндемонти»:
…Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права…
«По прихоти своей» мы четыре дня скитались по городу и пустынному Павловскому парку, кормили белок, дважды «тонули» в Эрмитаже, слушали уличных музыкантов, спорили в кафе, фотографировали, дурачились, любовались панорамой Невы и — прав поэт! — были совершенно счастливы. До тех пор, пока нам не вздумалось совершить два паломничества. Первое — в 20 минутах пешком от нашего тихого переулка, прямо по Каменноостровскому проспекту.
Все начиналось как нельзя лучше: теплый солнечный день, люди спешат по делам, толпятся на остановках, а мы себе гуляем. Нам хорошо — может, поэтому кажется, что питерцы улыбаются чаще москвичей. А может, и не кажется вовсе и они на самом деле не в пример нам дружелюбны и оптимистичны? Или это совпадение: скажем, у большинства сегодня все хорошо? А может, кто-то просто щурился на солнце? Не все ли нам равно? Мы улыбаемся в ответ, щуримся от солнца и счастья и потихоньку шагаем…
Давно не дачное место — Каменный остров сохранил штрихи прежнего загородного очарования: то блеснет рябью полузаросший пруд, то зашелестит листвой старик-осокорь. И все думаешь: может, его — как те пушистые, совсем юные сосенки на дороге из Михайловского в Тригорское — видел поэт и, лаская взглядом невзрачный прутик, мысленно поприветствовал, предвидя его могучий расцвет? И отчего-то так хочется в это верить, что вот уже и почти убежден — именно так все и было: Пушкин благословил, и пошел прутик в рост, и рос не по дням, а по часам — чтобы нам поэтов поклон передать. Будто услышав меня, богатырь молодецки шумит чуть желтеющей кроной, под упругим напором ветра чуть склоняя ее в нашу сторону…
А вот завиднелась и цель нашего короткого путешествия — «твердыня власти роковой», Петропавловская крепость. Проходя парком, замечаем ресторанчик, оборудованный для отдыха с детьми: ребятишки за столиками рисуют, что-то деловито мастерят, лепят из пластилина. Девушка-помощница что-то объясняет, мамы потягивают кофе и колу. Что ж, опять прав поэт в своем предвидении: «у гробового входа младая будет жизнь играть». Переглядываемся: славно! Ай да молодцы, что сбежали сюда из Москвы! Чудо Петербург-городок! Пушкинский!
На левой стороне Иоанновского моста шумно толпится народ — в нас срабатывает стадный инстинкт, подходим, вытягиваем шеи… Из воды торчат несколько столбиков, на одном — столбиком же, настороженно навострив уши, — заяц, не живой, конечно, скульптура. Понятное дело: крепостной остров Заячьим называется. Genius loci, наверное.
— Попадешь в него — сбудется! — наставляет матушка свое чадо.
— Главное не в туловище, а в морду, в морду его — тогда точно! — присоединяется крепыш лет 35.
Бросок… недолет!
— Вау! В другой раз обязательно попадешь! — успокаивает мать готового раскваситься малыша.
— Ма-а-ам! Па-а-ап! А мне! А я!.. — плаксиво заводят сразу несколько голосов.
— Вау! Вау!! Вау!!!…
Длинноухого жаль, хоть монетная шрапнель ему и нипочем. «А во время наводнений его, пожалуй, заливает по кончики ушей, и деда Мазая не дождешься…» — проносится в голове.
А потом — так, видимо, устроено сознание филолога, который во всем ловит отголоски известных текстов, — всплывают строки:
… как зверка
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
Может, Пушкин имел в виду не только сумасшедший дом, но и Петропавловку? Хотя одно другого в те времена стоило, особенно если учесть, что инакомыслящих либо официально объявляли безумными, либо доводили до сумасшествия в той же Петропавловке, Шлиссельбурге, Туруханске, Соловках… Впрочем, разница между теми временами и нашими, кажется, довольно условна: «за две строчки нерелигиозные» Пушкину «впаяли» два года «поселения», ныне за две минуты нерелигиозного поведения дают два года колонии общего режима. Александр Павлович будто помягче — правда, «мягкость» его объяснима: нельзя ж пред всей Европой признать, что нагло нарушаешь тайну переписки — в два счета прослывешь деспотом и самодуром!.. Да уж, тот плешивый щеголь если не совесть, так по крайней мере острастку имел. Но «были времена — прошли былинные», тогда не то, что ныне…
Внезапно по ушам бьет «гром музыки», довольно назойливой, а на ее фоне — женский голос, лишенный отпечатка индивидуальности, будто пластмассовый:
— … Без наших самых замечательнейших спонсоров: ТамТутСперБанка, ТырьИнвестСвиста, ЗАО ГрабьФолк… — никогда не состоялся бы наш такой суперзамечательнейший праздник. Мы как бы получили мегаудовольствие!
Рукоплескания. Динамики ревут будто по команде: «Маэстро! Урежьте марш!!!»
Что за притча? Всматриваемся: слева от Петровских ворот на берегу лежит нечто весьма внушительное и на первый взгляд бесформенное. Делаем еще два десятка шагов — ага! Это еще один грызун — на сей раз из дерева. Он лежит, как подстреленный, на боку. Размеры впечатляют: этак метров 20 на 5 на 3 (впрочем, за точность не ручаюсь). Потрудились, однако, ваятели… Зеваки хлопают, разглядывают «перформанс»…
Через Петровские ворота доставляли в крепость мучеников, многим из которых покинуть пределов ее было уже не суждено. Сколько их: революционеры и монархисты, идеалисты и прагматики, мужчины и женщины, плебеи и вельможи, проходимцы и поэты, русские и иностранцы, юноши и старцы, знаменитости и вовсе безвестные, порой просто случайные, под руку попавшиеся маленькие люди, — Петропавловка, чудовищная карикатура на ковчег, принимала без разбору, чтобы убить, унизить, свести с ума, искалечить, сломать — уравнять и возвысить страданием… А тут игривый розовоносый плейбоевский символ. И «пипл хавает»…
Мы пожимаем плечами и идем мимо «плейбоя», на которого уже карабкаются детишки, и тут меня осеняет: а ведь, пожалуй, зайцы, перебежавшие в декабре 1825-го дорогу Пушкину и заставившие его остаться в Михайловском, могли быть восприняты им как прямое указание на этот мрачный островок… Сообщаю о своем «озарении» Вере. Она секунду молчит.
— Слушай, а что бы ты предпочел: чтобы это было и тебя осенило или…
— … чтобы этого не было и остаться во мраке неведения? — подхватываю я ее вопрос. — Хммм… Вообще-то история не терпит сослага…
— Не увиливай!
— Конечно, чтоб не было — я все равно догадался бы! Ну, может, не я, но какая разница? — я замечаю улыбку в ее глазах. — Ах ты, тетя учительница! — смеюсь и обнимаю Веру за плечи.
Смех смехом, а грустно. Что делать? Броситься на деревянного зайца с топором — скажут: вандализм, надругательство над произведением искусства — или, чего доброго, припишут оскорбление чувств правоверных зайцелюбов, штраф впаяют, а то и по этапу… До наших чувств, однако, никому дела нет. И впрямь, кто мы такие? Большинство одобряет или тупо-равнодушно, и вся недолга…
Входим в крепость, сворачиваем к кассам и, купив билеты, поднимаемся на второй этаж в книжный киоск. Как финдиректор нашего путешествия, я поначалу отнекиваюсь: книги дороги, а я знаю свой грех — стремлюсь скупить все на корню…
— Я так решила!
Спорить бесполезно, и я… с радостью соглашаюсь. Набег удачен: две книжки Я. Гордина — о Пушкине и графе Уварове (идеолог Николая Палкина, автор ныне активно возрождаемой формулы «Православие. Самодержавие. Народность») и, конечно, о декабристах. Гордин умница, по-настоящему любит и, разумеется, досконально знает предмет, владеет пером — умеет шевелить мысли… Но Вера уже теребит за рукав — пора, через пару минут начинается экскурсия.
На присоединении к группе настояла именно она — вопреки нашему правилу скитаться независимо. И очень скоро раскаялась — со мною вместе. Представьте полсотни представителей рода человеческого — прямо по Пушкину: «чета Скотининых седая с детьми всех возрастов, считая от тридцати до двух годов…» Это не гипербола: были и с колясками! Ну насчет Скотининых — это так, к слову пришлось, без злого умысла.
Мы подходим к собору — экскурсанты крестятся, родители одергивают девчушку, заглядевшуюся на пролетавшую чайку, — та осеняет себя тремя перстами. «Щепотница», сказали б старообрядцы. А никониане их назвали бы еретиками, кержаками… Любопытно, что самые почитаемые и у тех и у других «двуперстные» иконы старого письма. А армяне — первые в мире возведшие христианство в ранг государственной религии, за 700 лет до Владимира Красного Солнышка, — крестятся, соединяя большой и средний пальцы. Чернокожие в Штатах на службах поют, хлопают и пляшут… Хлысты на радениях «скачут, играют по-давидову», доводя себя до исступления… Каждый считает, что молится правильнее остальных… Конечно, по их мнению, они все совершенно правы… Может, перестанем гнать ближних во имя всепрощения и любви? Ведь Иисус, он же Исус (даже имя его было поводом убивать и жечь!), ни слова не сказал о том, каким образом и сколько пальцев складывать: учил духу — не букве.
В храме экскурсанты не церемонятся: говорят в полный голос, фотографируют, дети бегают между саркофагами. Однако не крестятся, женщины остаются простоволосыми, многие в брюках, на некоторых довольно откровенные блузочки, в глубоких вырезах мерцают золотые крестики… Странно, что у надгробия Петра Великого люди не задерживаются — больший интерес вызывает усыпальница последнего императора, вход куда простым смертным заказан: запретный плод нам подавай, — и простые смертные всяко изгибаются, чтобы хоть что-то разглядеть… Понять, почему к саркофагу Николая II нет доступа, тем более что за посещение храма взимается плата, невозможно. Экскурсовод объясняет: что-то там не срослось между мирской властью и церковными иерархами относительно подлинности погребенных останков. Наверное, думаю я, результаты генетической экспертизы должны подтвердиться чудесами, скажем, прозрением маститого старца — «и мощь бесов исчезнет, яко прах». Впрочем, убежден, в конце концов они договорятся, не впервой: например, с Петра до большевиков церковь как-то существовала без патриархов, и ничего…
Оставив царей, плетемся в тюрьму Трубецкого бастиона. Солнце почти летнее, но здесь, среди камня, думаю, времена года едва ли различимы, мне не холодно, но как-то бесприютно. Вера, кажется, чувствует то же самое — берет меня под руку и крепко прижимается к моему плечу. Экскурсовод механически выдает: «… толщина стен… высота… перестук…» Его не слушают — идет обмен впечатлениями: «Прикольно! Метров тридцать! Хавка на халяву, all include!» — повизгивая и похохатывая, наши спутники «фоткаются» в камерах — с деланно страдальческими лицами, с заламыванием рук, изображая узников. Другие — «типа» надсмотрщики и палачи — корчат сердитые рожи, грозят кулаками, надувают щеки… «Безумство гибельной свободы»?..
На фоне камеры щелкается пара молодоженов. Она нежно улыбается, глядя на своего избранника, долгий поцелуй снимается на камеру. Побежали дальше по коридору. Читаю возле двери табличку: Мария Федосьевна Ветрова (1870–1897). Погибла, совершив самосожжение… Красавица, певунья, спорщица… Бестужевка. Учительница, мечтавшая воспитывать сознательных борцов за свободу и справедливость. Живой факел. Мучительная смерть в тюремной больнице от полученных ожогов. 27 лет. Всего 27… Молодоженам, наверное, столько же. Интересно, пришла бы им в голову мысль «фоткнуться» на фоне горы детских туфелек, которую я в юности видел в Бухенвальде? Меня мутит…
Отстав от группы, обращаемся к смотрительнице — где, мол, надписи «Не шумите, пожалуйста, ведите себя потише» и т. п.? Пожилая женщина сначала не понимает, о чем это мы, а потом успокаивает:
— Да что вы! Разве это шум? Да это нормально, а вот когда китайцы идут!.. — и пускается в длинную диссертацию о том, что в Питере русской речи не услышишь — понаехали армяне, таджики, вьетнамцы, негры, китайцы… китайцы же…
Мы прощаемся со словоохотливой патриоткой. «Это нормально… да, это нормально…» — вертится у меня в голове запиленный дактиль. Выходим, щурясь на солнце. От группы ничего не осталось — осмотр кончен, все разбрелись кто куда. Молчим. Вера кутается. Я закуриваю. Душа каким-то горем сжата… Может, это стены виноваты — сочащиеся человеческим страданием, пропитавшим их за три столетия?
Мне нет дела до иноземцев: для девяти десятых человечества Петербург или Царское лишь географические точки. Пушкин — сочетание звуков. Скажешь: поэт — а в ответ скорее всего равнодушно-вежливое «а-а-а…». Какой с них спрос? Не свое, и все тут. Точно так же, как для девяти десятых наших соотечественников ничего не говорят имена Мильтона или Тасса. Виноват: они могут распознать в первом уже несколько архаичное прозванье милиционера, во втором — Телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС, который уполномочен…
Дело не в иноземцах — дело в нас, тех, для кого Петропавловская крепость не звук пустой — свое. Ведь что-то слышали о ней, иначе не пришли бы сюда! И — хохоток, позы, «коммунальные» комментарии и плоское острячество. Иноземцы в чужой стране ведут себя подобно хозяевам, но намного сдержаннее. Кто бы из моих развеселых соотечественников позволил себе пошутить возле Мемориала жертвам геноцида армян в Ереване? В солнечный мартовский день, когда мы впервые увидели будто парящую над землей громаду Арарата, Тигран повел нас к Вечному огню. Он ничего не объяснял — просто тихо сказал:
— Это здесь…
В его глазах показались слезы. Тигран крепко сбит, суров на вид, прошел Нагорный Карабах и знает, по чем фунт лиха. И шутник и краснобай, каких мало; великолепное чувство юмора, помноженное на характерный акцент и кавказский темперамент, делают его исключительно ценным спутником — с таким не соскучишься, даже в многочасовом кружении по горным серпантинам. И вот наш Тигран плакал!.. Почти сто лет прошло с момента трагедии, почти не осталось живых ее свидетелей, из его рода никто тогда не пострадал… Стоп. Не совсем так, точнее — совсем не так: в тот день пострадал весь его народ, а значит, и его кровные, и он сам. Каждый год 24 апреля вся его семья — как и десятки, сотни тысяч ереванцев — идет сюда, к Вечному огню, положить цветы и поклониться мученикам. И никакая власть, конечно же, не требует от школ и вузов «обеспечить приход и наличие», «привлечь к участию» в количестве таком-то… В этот день, в этом месте нет власти — только люди, народ.
Почему в тюрьме Трубецкого бастиона мои соотечественники вели себя, скажем прямо, хамски, не знаю, причин, наверное, сыщется много. Если взять пошире, виновата жизнь… C’est la vie, так сказать. Только вот жизнь, она ведь не что-то постороннее, жизнь — это мы, не более. И не менее. Стало быть, и причина в нас. Нам и отвечать: перед собой, перед людьми, перед детьми или перед Богом — какая, в сущности, разница? Не в том дело, кто выслушает, а в том, будут ли слушать и поверят ли?
Упомяну в связи с этим один литературный сюжет. В книжке сестер Толстых «Двое» случайно попался на глаза такой пассаж: «В девятом классе насильственно проходили “Что делать?” — запомнилось навеки, что чулок пусть лучше будет с дыркой, но обязательно чтоб туго натянут, иначе не простят. Вот вы чем там занимались, Николай Гаврилович. Вот вам о чем думалось в тиши каземата».
Помимо глумливого тона зацепила явная — как бы выразиться мягче? — подтасовка: о дырявых чулках в романе нет ни слова. Есть, однако, отступление о чулках синих: «Синий чулок с бессмысленною аффектациею самодовольно толкует о литературных или ученых вещах, в которых ни бельмеса не смыслит, и толкует не потому, что в самом деле заинтересован ими, а для того, чтобы пощеголять своим умом (которого ему не случилось получить от природы), своими возвышенными стремлениями (которых в нем столько же, как в стуле, на котором он сидит) и своею образованностью (которой в нем столько же, как в попугае)».
Любопытно, однако, что «воспоминание» моей современницы, кажется, все же содержит обертон мысли великого утописта. «…надобно, чтобы обращение крови не задерживалось никакими стеснениями. цвет кожи стал нежнее? это так должно быть. И от каких пустяков! пустяки, но как это портит ногу! чулок должен держаться сам, весь и слегка ; линия стала правильна, этот перерез исчезает». Как говорится, с точностью до наоборот: чулок не натянут, а держится сам. И уж конечно, не задумывается Верочка о «прощении» тех, для кого она и ее единомышленники — воплощенная аморальность! Тут уж не до дырявых чулок…
Откуда же дырявые чулки проникли в сознание эссеистки? Думаю, из романа главного оппонента Чернышевского — тоже петропавловского сидельца, а затем каторжника.
«Перчатки на ней были не только заношенные, но даже изодранные эта явная бедность костюма даже придавала обеим дамам вид какого-то особенного достоинства, что всегда бывает с теми, кто умеет носить бедное платье. “Та королева, — думал он — которая чинила свои чулки в тюрьме, уж конечно, в ту минуту смотрела настоящею королевой и даже более, чем во время самых пышных торжеств и выходов”».
Замечу: Мария-Антуанетта, о которой вспоминает Разумихин, глядя на Дуню Раскольникову, изодранные чулки штопала не потому, что «другие» чего-то там «не простят», а потому, что сама перед собой хотела выглядеть достойно — по-королевски, по-человечески. Какие, однако, забавные штуки способно вытворить с нами наше сознание! «Запомнив» Чернышевского из Достоевского (иначе не могу выразить суть феномена!), Т. Толстая волей-неволей подтвердила необходимость серьезного знакомства с «Что делать?» — без этого «пятикнижие» Достоевского, особенно «Преступление…» вряд ли может быть понято адекватно. Во всяком случае отметим, что «подмена» (или смешение?) писателей, возможно, произошла именно потому, что обоих неотступно заботила мысль о восстановлении попранного человеческого достоинства. Как, какими путями, каждый определял, исходя из своих представлений, убеждений, опыта, но это уже тема другого разговора…
Листаю «Двоих» (наверное, имеются в виду дети?) внимательнее. Оказывается, Чернышевский упоминается на страницах сборника не единожды. Вот еще: «Подслеповатый материалист Чернышевский полагал, что жаба — вершина безобразия, глубже его эстетическая мысль не шла. Жабино личико, на человеческий взгляд, и вправду сильно уступает мордочке Клаудии Шиффер, но только на человеческий» (курсив мой. — А.К.).
В горячей защите жабина личика в противовес мордочке актрисы наперекор вековым традициям (Иван-царевич недаром ведь тезка дураку: лягушка, подобравшая его стрелу, «не привлекла его очей»!) — ощущается что-то очень личное. Что ж, «сердцу девы нет закона»: пусть ее любуется жабами — бывает. Но при чем тут Чернышевский? Зоркой идеалистке, надо полагать, ведомо, что подслеповатость его имеет во многом благоприобретенный характер: более двух десятилетий заключения, голодовок, каторги, сибирского поселения не шутка. И на человечий — не «жабин»! — взгляд, шутка ее едва ли не бесчеловечна. Приписав же Чернышевскому не принадлежащие ему воззрения, эссеистка оклеветала мыслителя, заплатившего десятилетиями страданий за свои убеждения. Убеждения же эти были, скажем прямо, не бог весть как оригинальны, а по-сегодняшнему и вовсе банальны. Кстати, на оригинальность Чернышевский никогда и не претендовал не то чтобы из скромности, а опять же в силу своих убеждений: «кто с дельною целью занимается каким-нибудь делом, тот, какое бы ни было это дело и в каком бы платье ни ходил этот человек, в мужском или в женском, этот человек просто человек, занимающийся своим делом, и больше ничего». И больше ничего.
Так вот, «какое-нибудь дело», которым занимался Чернышевский, коротко формулируется одним словом: свобода — передвигаться, любить, мыслить, писать, читать, говорить, работать, верить, разуверяться, дружить (список бесконечен, порядок произволен) — все то, чем все мы, в том числе и Т. Толстая, сейчас пользуемся, отчасти благодаря подслеповатому материалисту, о котором, что греха таить, мы почти забыли… Забыли, кстати, и то, что он всю свою жизнь яростно боролся за гражданские права женщины. Достоевский — устами Разумихина — съязвил по этому поводу: «Вот тут два с лишком листа немецкого текста, — по-моему, глупейшего шарлатанства: одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек? Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек». Смешно. Однако человечество осознавало эту истину десятки тысяч лет, а кое-где женщин наделили избирательным правом лишь в начале XXI века… Подчеркну: Чернышевский не был тут первопроходцем и не был единственным — пожалуй, он мог бы сказать о себе, как чеховский доктор Астров: «… быть может, это в самом деле чудачество, но, когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я».
Самое удивительное, что подслеповатый чудак жертвой себя не считал, ведь жертва — «фальшивое понятие: жертва = сапоги всмятку как приятнее, так и поступаешь». «Отмотав» по сфальсифицированному и недоказанному обвинению более 10 лет, отказывается просить о помиловании в обмен на гарантированное освобождение! И ведь руководствовался при этом даже не тем «как приятнее», а попросту своей дурацкой (недаром и первую главку романа своего нехудожественного назвал «Дурак») логикой, здравым смыслом то бишь: помиловать можно преступника, а раз не доказано, что я таковой, то помиловать меня невозможно — о чем же тогда речь, господа? И остался еще на 9 лет в запредельном Вилюйске, в котором средняя зимняя температура составляет минус 30°С с бо-о-ольшим хвостиком, а зимы тянутся нескончаемо… Вот тебе и как приятнее…
Как тут не вспомнить пословицу, на днях сочиненную и изреченную одной неудержимо мудрой головой: музам служит, а с головой не дружит. А как же-с: служителям муз в благословенном нашем Отечестве положено с головой дружить, знать брод, свой шесток, соломку стелить и использовать разные каналы!.. Вот только «наше все» вдохновенье называл дрянью или дурью, описал поэта как помешанного: «бежит он, дикий и суровый» — и вообще был убежден, что «поэзия, прости господи, должна быть глуповата». То есть Александр Сергеевич сию максиму, наверное, слегка отредактировал бы: кто музам служит, с головой не дружит… А может, и просто сказал что-нибудь вроде: «хвалу и клевету приемли равнодушно»… ну и далее по тексту. И ведь никто об этом голове не шепнул — самой-то ей недосуг вникать: с высоты своего паренья, из поднебесья, за всем не углядишь!
Однако я отвлекся: животрепещущую тему взаимоотношений с головой представителей «цеха задорного» мы обсудим в другом месте, а пока позволю себе привести несколько строк, написанных, как изящно выразилась Т. Толстая, в «тиши каземата» Петропавловской крепости: «… и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканные, страмимые. под шумом шиканья, под громом проклятий, они сойдут со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, как были. И не останется их на сцене? — Нет. Как же будет без них? — Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди: “после них стало лучше; но все-таки осталось плохо”. И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде».
Да, Николай Гаврилович, «загадал далеко вдаль»! Прошли года, да что года — полтораста лет! — после того, как вы записали свое предсказание, и где люди «этого типа»? Шикающих, страмящих, проклинающих, гонящих, глумящихся, пляшущих на костях — много уж их нынче развелось…
Впрочем, ничто не ново под луной: тургеневский Базаров тоже вот утверждал, что у Пушкина «на каждой странице: на бой, на бой! за честь России!». (Интересно, однако, не здесь ли почерпнул первую часть своей «барабанной» концепции Г. Федотов, назвавший Пушкина «певцом империи и свободы», позабыв о «несовместности» коня и трепетной лани? Впрочем, я немного забегаю вперед.) Тургенев ничего не выдумал: его герой почти дословно излагает мнение Николая Успенского, уверявшего создателя «Отцов и детей», что «Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: „На бой, на бой за святую Русь“». Почти: для современников Тургенева фраза явно отдавала… некрасовским Гражданином: «Иди в огонь за честь отчизны…» (1855). С Некрасовым же и его «Современником» Тургенев только что разорвал отношения.
Но не будем вдаваться в биографические подробности — лучше отметим мастерство писателя: Базаров, ни в грош не ставящий литературу, тем не менее вполне мог где-нибудь слышать «Поэта и Гражданина», в котором несколько раз в полемических целях упоминается и имя Пушкина. Для нигилиста же Пушкин едва ли не имя нарицательное, синонимичное поэту и в более общем виде — бесполезному человеку, бездельнику (подобный подход он демонстрирует знаменитым рассуждением о человеке: «Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой»).
Однако Базаров — отдадим ему должное — легко соглашается с уличившим его Аркадием: «Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того».
Альтернативная точка зрения не то чтобы полностью защищает читателя от напора обаятельного ниспровергателя авторитетов, но по крайней мере предупреждает о сомнительности некоторых его деклараций.
Еще важнее, пожалуй, то, что писатель фиксирует чрезвычайно существенный признак начавшегося общественного духовного кризиса — даже не подмену, а смешение понятий, которая в первую очередь выражается в обессмысливании, а значит, и обесценивании — обесчещении — слова, превращении его в «щебетанье щегла».
Ученному на медные деньги Базарову простительно не знать и не понимать поэзии, к тому же ляпнул он о Пушкине в раздражении и не без задней мысли побольнее задеть «мякенького либерального барича» Аркадия Николаича. И еще, ляпнул в приватной беседе, без посторонних ушей. Да-да, Базаров ничуть не постеснялся бы подобным образом аттестовать «наше все» и публично… Однако это уже область наших догадок и гипотез, а значит, тут Евгений Васильев неподсуден. Не стоит забывать и такой немаловажный факт: Базаров, несмотря на удивительное, убедительнейшее жизнеподобие, остается все же литературным героем, и с него взятки гладки.
Но что делать, когда клевету — не только на собрата по цеху, но и, без сомнения, безукоризненно честного человека — «тискает» значительным тиражом человек из плоти и крови, хорошо к тому же образованный и по всему весьма неглупый? Что делать? Читать Пушкина — «самую полезную, самую здоровую пищу для нашего брата, литератора», — как советовал И.С. Тургенев (письмо M. A. Маркович, 10(22) июля 1859, Куртавнель). Что ж, прислушаемся к совету — почитаем Пушкина.
16 ноября 1823 г. поэт пишет Дельвигу из Одессы по поводу послания Е.А. Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры»: « Сомов безмундирный (курсив Пушкина. — А.К.) непростительно. Просвещенному ли человеку (курсив мой. — А.К.), русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостию писателя?» Замечу, что Орест Сомов в то время довольно резко нападал на Баратынского — друга и единомышленника Пушкина, в том числе прошелся по поводу унтер-офицерского чина певца Финляндии. Казалось бы, «раззудись плечо, размахнись рука!», ан нет: просвещенному (= порядочному) человеку непростительны некрасивые поступки. «НЕ ДЕЛАЙ того-то».
Еще одно письмо — тоже лицейскому, Кюхельбекеру: «Не понимаю, что у тебя за охота пародировать Жуковского. Ты скажешь, что насмешка падает на подражателей, а не на него самого. Милый, вспомни, что ты, если пишешь для нас, то печатаешь для черни; она принимает вещи буквально. Видит твое неуважение к Жуковскому и рада» (1–6 декабря 1825 г., из Михайловского в Москву; курсив мой. — А.К.). Это письмо еще прозрачнее. Придумывая за Кюхлю оправдание, Пушкин, пожалуй, подыгрывает ему, поскольку тот скорее всего метил именно в Жуковского, а не в подражателей. Важно, однако, что «брата по музам, по судьбам» он возвышает, представляя его намерения благородными, по крайней мере свободными от оскорбительной «личности». Словом, творчество Жуковского может нравиться или нет, но свои пристрастия необходимо держать при себе, дабы не навредить достойному человеку. «ЛЮБИ то-то, то-то»!
И последний пример. Болдинской осенью Пушкин написал две эпиграммы на перевод Н.И. Гнедичем «Илиады». Вторую из них, помеченную 8 ноября 1830 года, поэт опубликовал в 1832 году:
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.
А вот первую, явившуюся на свет месяцем раньше (1–10 октября 1830 г.):
Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод, —
Тщательнейшим образом замарал — да так, что прочитать ее смогли лишь восемь десятилетий спустя! С чего бы это? Ведь не крамола, да и остроумно: Гомер слеп, Гнедич — крив (сюда — по закону градации! — прямо просится «подслеповатый» Чернышевский!), а любой перевод, увы, лишь частично передает красоту оригинала… Эпиграмма явно не предназначалась для печати — только для самого узкого круга «своих». Хорошо, по размышлении зрелом поэт понял, что «утечки информации» не избежать — благо такой опыт имелся: в заметках о Карамзине — «великом писателе» и «честном человеке», — открещиваясь от авторства «одной из лучших русских эпиграмм», Пушкин добавляет: «это не лучшая черта моей жизни», тем самым косвенно признавая свой грех… Как бы то ни было, гнедичевского шаржа он друзьям не показал (либо они умели хранить тайны — свидетельств такого знакомства до нас не дошло). Казалось бы, зачеркивать эти две строчки было вовсе незачем, к тому же в рабочей тетради — к ним Пушкин вообще никого не подпускал. Все просто: он отдавал себе отчет в том, что «всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства». Зная о своем величии, знал и о том, что рано или поздно его бумаги — и в первую очередь не «отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа», но те, что содержат его поэтические опыты, — попадут в руки «любопытных изыскателей», наши с вами руки, руки потомков. И по этой причине хотел, что называется, «сохранить лицо»: не столько о репутации Гнедича заботился, сколько о собственной.
Будучи уже на смертном одре, безмерно страдая от раны, Пушкин вспомнил о Грече: «Если увидите Греча, кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере» (Греч потерял сына. — А.К.).
Отношения между Пушкиным и Гречем безоблачными не назвать даже с большой натяжкой…
Что ж, вернемся к современной эссеистике, полистаем «Двоих»… неужели? Опять вспомянут Чернышевский — на этот раз не Татьяной Толстой, а ее старшей сестрой Натальей. Читаю:
«У Татьяны Борисовны были любимцы: Герцен, Чернышевский и Добролюбов».
Низкий поклон на добром слове Татьяне Борисовне Лозинской, бабушке сестер Толстых! Внучка же этой привязанности не разделила:
«Потом я обнаружила, что Александр Иванович — замечательный писатель, а Николай Гаврилович — наоборот…»
Вот как! «Наоборот», надо понимать, «незамечательный» писатель, никудышный. Однако горазд наш язык на игру смыслов: замечательный — заметный, тот, кого замечают, а наоборот — значит, неприметный. Странно: Достоевский, Фет, Лев Толстой — заметили… Как ни крути, выходит, замечательный все-таки! Впрочем, это я так, придираюсь, должно быть, так что продолжим читать:
«… бабушка любила их одинаково и жила по их заветам: долг гражданина — помочь товарищу в беде. А в беду в те чудесные послевоенные годы попадали почти все, кто уцелел в тридцатые».
Как сказано у классика, «вкус, батюшка, отменная манера; на всё свои законы есть…». Свои законы есть, разумеется, и в отделении овнов от козлищ — замечательных писателей от тех, кто «наоборот», т. е. от никудышных. Я вот, не мудрствуя лукаво, руководствуюсь банальной истиной — пушкинской строфой:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Ежели к творчеству Чернышевского подходить с этой меркой, то он писатель что надо. Другое дело, что любезен народу он оказался недолго, но тут дело в народе, а не в писателе, тем более не в человеке…
Чернышевский этих пушкинских строк не знал — строфа печаталась в «подцензурной» редакции Жуковского, — но жил так, будто всосал их с молоком матери. Шестисотлетний столбовой дворянин и безвестный саратовский попович, законодатель вкуса и автор демонстративно «антиэстетического» романа странно сблизились, сошлись, пересеклись как две параллели в неевклидовом пространстве человеческого — человечного! — бытия… Да иначе, наверное, и быть не могло, ибо оба мечтали, в сущности, об одном: о том, чтобы человечности в мире прибыло.
Задумывалась ли об этом бабушка Татьяна Борисовна, строя свою жизнь по заветам Чернышевского? Не знаю. Но неоспоримо, что мудростью своего доброго, честного сердца это постигала.
Порой и помогать в беде не требуется — просто не шикать, промолчать, быть благодарной. И благородной.
Фото Алексея Бабича








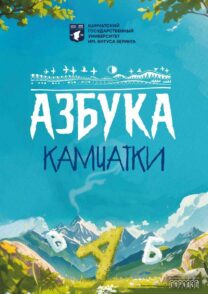

 Выбор читателей
Выбор читателей



Комментарии