В книге воспоминаний поэта, критика, историка литературы Валерия Шубинского – в первом ее томе, посвященном раннему, киевскому, детству автора, его предкам, семейному прошлому, – два параллельных (и постоянно пересекающихся, в повествовательной геометрии такое возможно) событийных ряда: памяти и вспоминания – усилий восстановления прожитого.
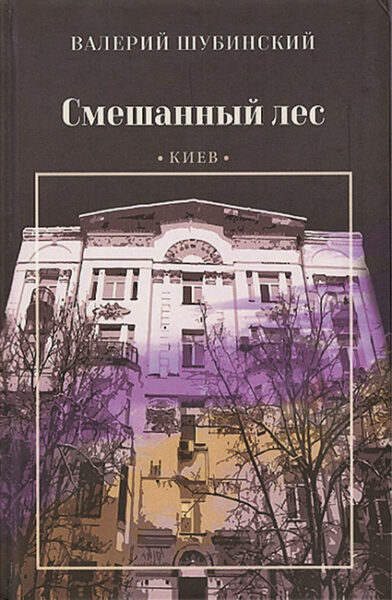
В каком-то смысле это дневник памяти. Книга не просто писалась фрагментами, но некоторые из них датированы (причем датировки прыгают: январь – апрель 2018‑го – январь 2019‑го – 2018‑й – 2019‑й – снова 2018‑й…). Очень возможно, это указание (хотя бы себе самому) на то, что вспоминание почти решающим образом зависит от обстоятельств, в которых оно происходит. У вспоминания собственные логика и драматургия, и автор старается выявлять их и следовать им, таково условие точности, может быть, одно из важнейших. Следуя этой логике, начинается книга сразу с конца, причем с двойного: с воспоминаний в январе – апреле 2018 года, о том, как Киев для автора заканчивался дважды: в 1988‑м, перед назревавшим уже концом Союза, и спустя целую эпоху, а то, пожалуй, и не одну, – «через двадцать два года, через полную жизнь, скажем, поэта Веневитинова». Начав с двух все более окончательных расставаний с родным городом, Шубинский вскоре после этого начала отступает по линии восстановления прошлого вспять и начинает вспоминать снова из 2010‑го. «Дом мне тоже снился – дважды, – говорит он о родном доме на киевской Тарасовской улице. – И совсем недавно (2009, год назад)».
Это неоднократное затрудненное начало, норовящее уклониться в сторону – в давние (впрочем, сплошь знаковые) разговоры, в подробную реконструкцию давних сновидений, – не свидетельство ли того, что прошлое противится своему восстановлению? Автор же настолько уважителен к подлинности и своеволию исчезнувшей жизни, что и не пытается ее спрямить, выстроить в одну линию. Не говоря уже о том, что не навязывает ей идей, не вписывает ни в какие проекты, просто слушает, что она говорит.
На один, по крайней мере, проект эта книга, кажется, все-таки работает. Она в несомненном родстве со знаковыми «памятными» книгами последних лет: «Памяти памяти» Марии Степановой, «Кажется Эстер» Кати Петровской, «Ф.И.О.» Ольги Медведковой. Шубинский, единственный (кажется) пока мужчина-мемуарист в этом ряду, выделяется в нем своей сдержанностью, жесткой фактографичностью, но это непринципиально: все эти книги не только (не столько?) о прошлом, но о самом процессе вспоминания, о проблематичности и невозможностях его, о принципиальной его неполноте, которая не отменяет точности. И невозможно исключать, что появление таких книг означает формирование некоторой новой культуры взаимоотношений с памятью и нарративов, основанных на иных, чем прежде, принципах.
Вспоминание петляет, двигаясь своими прихотливыми путями (и благодаря этому повествование о многих жизнях, втиснутое всего-то в сотню с лишним небольших страниц, разрастается во все стороны, становится многоуровневым, вообще возможным в своей многоохватности): от судьбы родственников автора перед войной и сразу в ее начале через эвакуацию бабушки автора с двумя дочерьми под Новосибирск, в Колывань (и тут же поиск им самим много лет спустя тех, кто помнил их в этой Колывани, – нашел!) и возвращение их затем назад, в оставленный ими Киев, в страшные киевские легенды о «матче смерти», о Бабьем Яре и селевых потоках, хлынувших оттуда двадцать лет спустя («на самом деле все, кажется, еще жутче»), оттуда резко в сторону, к киевской архитектуре: от древнейшей – Софийский собор, Золотые ворота, среди «настоящих руин» которых играл автор в детстве («плоские кирпичи XII века, новенькие «нормальные» – XVII») через сецессию к сталинскому ампиру, оттуда к подробно-памятной киевской топографии и топонимике, вросшей в родовую, фамильную, личную память: «…сецессия и сталинский ампир – это центр, Крещатик и Печерск над ним, это навершие великих холмов, а снизу – совсем иное дело, например, по Жандармской (она же Мариинская, Пятакова, Саксаганского) проходила черта оседлости. То есть все, что ниже, – еще черта (гетто), выше евреи есть, но только богатые и образованные. Соответственно, и дома разные. Саксаганского пересекала нашу Тарасовскую посередине. Мы жили выше. <…> Все дальнейшее действие происходит в районе парка Шевченко, Старого Ботанического сада, Бульвара Шевченко, Владимирской, Евбаза и немножко в новостройках (тогдашних) Борщаговки». Оттуда через детдомовское детство матери в фамильную предысторию, в родной город бабушки Немиров, глубоко-глубоко в допамятное прошлое: «В урочище Городище, которое находится неподалеку от Немирова, обнаружены остатки поселения трипольской культуры. В этом же урочище Городище находится одно из крупнейших (150 га) скифских городищ VII-VI вв. до н. э.».
Шубинский точен, насколько вообще возможно, и сдержан до эмоциональной скупости (и это сдержанность сильного, страстного, жесткого человека, которому, как сказала другой поэт, «есть что сдерживать»). Имена, факты, цифры, документы: краткий послужной список деда (последняя строчка: «Приговор – расстрел»), цитаты из писем, обширные – из воспоминаний матери, справки из Википедии, наконец, с честной фиксацией невосстановимого («Потом провал. Где жили, как?»; «Живых деталей только две»). Никаких красот стиля, никаких обычных и естественных при разговоре о таких предметах идеализаций прожитого, никаких не менее естественных сожалений об утраченном. Минимум обобщений. Почти никаких оценок. Он честен, напряженно-содержателен, прям, пристально-внимателен и закрыт.
Только вдруг иногда прорвется тем сильнее, чем реже личное обращение к тем, кто никогда не услышит, и откровенное до беззащитности признание: «Дедушка и бабушка, сейчас опять начнется про вас. У меня четыре дедушки и три бабушки, но вы главные, хотя вашей крови нет в моих жилах. Я люблю вас».
Валерий Шубинский. Смешанный лес. Киев. – М. : Русский Гулливер / Центр современной литературы, 2022. – 128 с.







 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии