Разговор в контексте
Комментарий к уроку
Очень трудно говорить о чужом уроке. Прежде всего потому, что чужое, каким бы хорошим ни было, все равно не твое. А когда дело касается литературы – тут просто катастрофа. Очень уж предмет у нас деликатный в самом прямом смысле слова. Восприятие произведения искусства всегда субьективно, и единственным общим законом, пожалуй, мог бы быть (мог бы – потому что его нет) закон равноправия учителя и ученика – равного права на субьективность. Там, где учитель соблюдает этот закон, дети любят литературу, хотя, случается, знают о ней не всегда много. Там, где учитель авторитарен – там ученики литературу не любят и даже если что-то знают, сами потом, после школы, не читают.
не трудно оценить данный урок с этих позиций. Это вообще невозможно сделать на основе одного урока, даже если ты его наблюдаешь в классе, а не просто читаешь план. Очень жаль, что к описанию урока не приложены хотя бы отрывки из домашних сочинений. Ведь самое главное – не то, что говорит учитель, а то, что потом напишут ученики.
Урок, о котором сейчас идет речь, живой. Театральный. Проблемный. Открытый, хотя немного, я бы сказала, риторический. Урок этот, может быть, даже полезнее другому учителю, чем учащимся. Он заставляет думать, определять более четко свою точку зрения на произведение, искать аргументы. Во всяком случае я несколько дней потратила на то, чтобы перечитать все, что было возможно, по Чернышевскому, привести в порядок накопившееся за несколько лет, в которые у меня не было старших классов, и, в общем, я очень рада, что мне в руки попалась рукопись Светланы Долгополовой. Анализируя ее урок, я постараюсь воздержаться от своих эстетических и методических пристрастий и быть предельно обьективной, оперируя только историческими и литературными фактами.
Самое главное, чего недостает мне в этом уроке, – это продуманного контекста, исторического и литературного.
Первая часть урока, которую условно можно было бы назвать “Чернышевский и Некрасов”, начинается единственно удачным образом – чтением 7-й подглавки 4-й главы романа. Но дальше разговор движется в сторону, уводящую от того направления, которое только и могло связать воедино весь урок, в сторону от эпохи, описанной в романе, и от людей, переживавших это бурное, говорливое и смутное для России время. Прежде всего незамеченным остался тот факт, что Чернышевский заставляет своих героев читать в 1857 году произведение, которое лишь в 1861-м было впервые опубликовано. И делает он это сознательно, осуществляя скрытый намек на революционную ситуацию, сложившуюся в обществе как раз в период написания романа. Игнорирование этого факта делает невозможным воссоздать диалог между Чернышевским и Некрасовым, а именно: статью Чернышевского “Не начало ли перемены?”, где он использовал “Песню убогого странника” из поэмы “Коробейники” как призыв к крестьянскому восстанию (ведь как раз “Песня…” и есть то, что занимает в поэме видное, “главное” место, говоря словами Веры Павловны и Кирсанова). В свою очередь Некрасов в это же самое время, как убедительно доказала М.В.Нечкина в статье “Третий “Пророк” русской литературы”, создает свое стихотворение, посвященное Чернышевскому, и только в контексте тех лет прочитывается непечатавшаяся последняя строфа, в которой поэт высказывает уверенность в том, что Чернышевский обречен, сознательно жертвуя собой. Что давало Некрасову такую уверенность? Его, как пишет Нечкина, прекрасная “осведомленность в конспиративных делах революционного подполья”, в частности о роли Чернышевского как вождя готовившегося крестьянского восстания.
Далее сам собой напрашивается разговор о Рахметове как образе, наиболее автобиографическом для автора романа. Наверняка о персонаже этом говорили на одном из рабочих уроков, и именно по этой причине, должно быть, ему не нашлось места в итоговом уроке. Но я напомню, что для итогового урока важен контекст, важна возможность расширить представление о времени и изображенных характерах. Вообще самое интересное и важное – это не те вопросы, которые дискуссировались, а люди, жившие в то время, – характеры настолько неожиданные и оригинальные, что вся русская проза 60-х годов была занята их осмыслением. И, говоря о контексте, я имею в виду забытый совершенно и блистательный роман Н.С.Лескова “Некуда”, когда-то освистанный демократической русской прессой, бывший затем под запретом в советское время. А между тем в этом романе, написанном, кстати, в 1864 году, нарисована широкая панорама русской жизни со всем разнообразием типов русского общества той эпохи, начиная с близкого по духу Рахметову революционера Райнера и кончая сатирически-гротескными образами эмансипированных девиц с папиросками.
Но вернемся к обсуждаемому уроку. Разговор о Некрасове обрывается неожиданно, не исчерпав и половины возможностей, в нем заключавшихся, и как-то не совсем чтобы вдруг начинается обсуждение женского вопроса, который естественным образом упирается в проблему любви. Эта тема юношам и девушкам, бесспорно, близка, но разве можно проводить экспресс-интервью на тему: “Что такое любовь?” По-моему, это просто нетактично. Какая-то коллективизация интимной жизни. Не знаю, мне было бы неловко задавать детям даже в личной беседе подобные вопросы, а уж в классе, на уроке…
Ну да ладно. Поговорим лучше о “деловой женщине” – о Вере Павловне. Не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов о пресловутых швейных мастерских. Почему-то принято считать эту ее инициативу ужасно прогрессивной. Однако обратимся вновь к литературному контексту и прочитаем небольшой отрывок из романа Тургенева “Дым”, на первых страницах которого дана великолепная зарисовка всевозможных “брожений мысли” в русском обществе.
” – Я романов больше не читаю, – сухо и резко отвечала Суханчикова.
– Отчего?
– Оттого что теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.
– Какие машины? – спросил Литвинов.
– Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут…”
“Дым” написан в 1862 году. Похоже, швейные машины стали уже настолько избитым местом в дебатах об эмансипации, что возникает невольно подозрение и насчет Веры Павловны, и вообще насчет самого понятия “новые люди”. Уж не пародия ли они, перефразируя Пушкина?
В 1994 году вышел в свет сборник эссе П.Вайля и А.Гениса “Родная речь” – книга, которую я лично своим ученикам рекомендую как основное пособие наравне со школьным учебником по литературе. В эссе “Роман века. Чернышевский” авторы обращают внимание на ту иронию, с которой описаны в романе т.н. “новые люди”:
“Поколения русских людей повторяют заповедь Чернышевского: “Умри, но не давай поцелуя без любви!” Но кто же произносит в романе эту краеугольную сентенцию кодекса чести? Проститутка. Француженка-содержанка Жюли.
Весьма сомнительно, что Чернышевский мог допустить такую дискредитацию сознательно.
Так же странно выглядит описание дня Веры Павловны. Этот “новый человек”, надежда и слава русской интеллигенции, “проснувшись, долго нежится в постели; она любит нежиться… она долго плещется в воде, она любит плескаться, потом долго причесывает волосы …она любит свои волосы…”
И так далее.
В уже упоминавшемся романе Лескова, в третьей его части, посвященной описанию петербургской жизни (первая часть – провинция, вторая – Москва), нарисована т.н. коммуна, населенная тоже “новыми людьми”. Когда ставишь в один ряд все эти произведения, написанные совершенно в одно время, иначе видишь действительность 60-х годов прошлого века, чем когда читаешь об этом в одном, обособленно взятом, романе. Если уж такие разные писатели, как Чернышевский, Тургенев, Лесков в чем-то сходятся, это не случайно.
И в завершение разговора о “швейных мастерских” хочу привести ставший мне известным недавно факт, о котором когда-то рассказывал своим гостям К.И.Чуковский, а я услышала эту историю в пересказе одного пожилого художника, в юности бывавшего у Чуковского дома.
Корней Иванович был блистательным рассказчиком, и одним из его коронных номеров был рассказ о петроградском крематории, который был выложен из мрамора, снятого с богатых могил, естественно, после революции. Прежде чем строить из надгробных плит здание крематория, необходимо было уничтожить надгробные надписи. А надо сказать, тогда же, после революции, новая власть, проявляя заботу о падших женщинах, организовала их все в ту же швейную артель. Но, поскольку работа была нетрудной, дамы легкого поведения не желали оставлять свое ремесло, и вот, в наказание, им ужесточили условия труда: как вы уже догадались, наверное, именно неудавшейся швейной артели проституток было поручено шлифовать могильные плиты проклятого правящего класса.
Прелюбопытная получилась история. Тоже контекст, ставящий под сомнение вопрос, который С.Долгополова задает в конце урока своим ученикам: “О такой ли революции мечтал Чернышевский?” Может, о такой и не мечтал, но что другой она быть не могла, это без сомнения. Мы мало изучаем исторический опыт, в частности опыт французской революции конца XVIII столетия, а между тем опыт этот блестяще осмыслен в контексте (опять контекст!) разговора о книге Радищева “Путешествие из Петербурга в Москву” Ю.Карякиным и Е.Плимаком в книге “Запретная мысль обретает свободу”.
Итак, вся вторая часть урока, от которого я так далеко на первый взгляд отошла, посвящена женскому вопросу – от свободного труда до любви. Затем разговор довольно плавно переходит к проблеме счастья и смысла жизни, как их понимал Чернышевский. И тут снова вопиюще недостает контекста, диалога – того, который существовал уже тогда и которого так не хватает и теперь. И теперь – более, чем тогда. Потому что сто пятьдесят лет назад одновременно с материалистом Чернышевским звучали голоса Достоевского, Толстого, Лескова; потому что проблему свободы уже Пушкин решал на протяжении всего творчества и, начав со стихов политических, кончил-то каменноостровским циклом, в школьной программе отсутствующим до сих пор.
Короче говоря, ученики на подобном уроке – итоговом уроке! – оказываются замкнуты в одной-единственной системе ценностей, и, честно говоря, мне при всем желании было бы трудно вдохновить их на разного рода благие дела по переустройству общества, коли заканчиваю я урок тем выводом, к которому приходит Светлана Долгополова:
“1. Чернышевский был подвергнут процедуре гражданской казни и сослан за революционные мысли.
2. А.Солженицын и А.Зиновьев были лишены гражданства и высланы из СССР за антиреволюционные мысли, за неприятие революции и всего последующего”.
Кстати, по поводу сопоставления четвертого сна Веры Павловны с картинами жизни города Ибанска из “Зияющих высот” А.Зиновьева. Еще Герцен подметил, что в этой сусальной картинке с оттенком непристойности все кончается борделем. Об этом также рассуждают в своем эссе П.Вайль и А.Генис. Вряд ли Чернышевский мечтал о таком будущем: даже для человека, которому с его системой взглядов согласиться трудно, в личной жизни он безупречен. Его отношения с Ольгой Сократовной – пожалуй, самое настоящее и ценное в его жизни. Да он и сам это осознавал, иначе бы не написал жене: “Наша с тобой жизнь принадлежит истории”.
Странно получилось. Я на одном дыхании прочитала конспект урока, думала о нем несколько дней, жила этой темой, а в итоге – вот такая статья. И мне не хотелось писать отрицательную рецензию, потому что такие уроки – живые, заинтересованные, яркие – редкость. Но погрешить против истины не могу. А истина жизни заключается в том, что все разговоры и мнения – вообще все бессмысленно, если нет определенной системы ценностей, с которой соизмеряется то или иное явление жизни ли, искусства ли. Такой системы в прочитанном мной конспекте урока я не вижу. Разве что к выводу о неизбежности еще одной революции подвел учитель учеников?
Если же это не так, почему пафосу романа “Что делать?” не противопоставлен другой пафос, другие в конце концов “новые люди”, как у Лескова в “Некуда”? Или старые идеалы?
И.А.Гончаров писал в романе “Обрыв”, над которым работал 20 лет (а опубликован впервые роман был в 1869 году):
Вера “с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталою, а также пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола.
Ей прежде всего бросилась в глаза – зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы дарования, бойкий ум и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни, только потому, как казалось ей, что они были готовые.
Иногда, в этом безусловном рвении к какой-то новой правде, виделось ей только неумение справиться со старой правдой, бросающееся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от не проверенных ничем новых авторитетов, невесть откуда взявшихся новых людей – без имени, без прошедшего, без истории, без прав”.
Мне кажется, без истории и без старой правды, без полноты правды итоговый урок по такому произведению, как роман “Что делать?”, невозможен. Слава Богу, уже не опасен, но просто бессмыслен. Пусть меня простит Светлана Долгополова, я просто старалась быть обьективной.
Хотя в самом начале я сказала, что в литературе быть обьективной невозможно.
Поэтому мне бы очень хотелось услышать другие мнения об этом, бесспорно, интересном и неординарном уроке по Чернышевскому. Тем более что во многих школах роман “Что делать?” сейчас не считают нужным изучать. А, наверное, зря.
Елена КОРКИНА,
учитель литературы 434-й школы
Москва






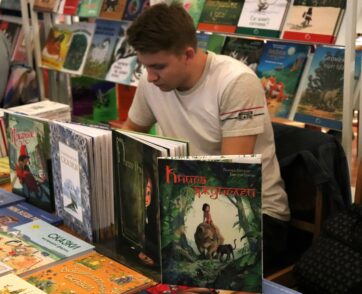
 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии