Глубокие реформы в образовании часто, если не всегда, совпадают с радикальными переменами в жизни общества. Тогда же, вопреки пословице «Коней на переправе не меняют», меняют министров образования. Выбор их идет не по профессиональным качествам, а по признаку преданности идеям лидера страны, которому нужен «свой парень». Именно это качество выделял в первом наркоме просвещения России Анатолии Луначарском вождь Октябрьской революции Владимир Ленин, характеризуя его как человека, который «любое партийное поручение выполнит, и выполнит превосходно». О его педагогических качествах и опыте никто не справлялся, сразу определив главным по образованию, добавив еще и культуру.

В книге «Воспоминания и впечатления» Луначарский характеризует себя как юношу, с необычайно ранних лет включенного в политику. В 5‑м классе он уже создает кружок, из которого выросла «организация, охватившая все гимназии, реальные училища», в ней было не менее 200 участников. «Пятиклассники, – пишет он с расчетом на наивного читателя, – с увлечением изучали труды Писарева, Добролюбова, Спенсера и нелегальную социал-демократическую литературу». Такую массовую любовь к политике и философии в младшей школе представить трудно. Но кто не грешен, раскрашивая свое прошлое?
Настоящее революционное образование Луначарский получил, когда с согласия матери и при ее финансовой поддержке уехал на учебу в Швейцарию, в Цюрих. «От университета как такового я получил немного», – пишет он. Девятнадцатилетний юноша сразу же погрузился в среду политических эмигрантов, тесно сблизился с одним из лидеров партии меньшевиков Павлом Аксельродом. Его он долго будет называть своим настоящим духовным отцом.
Сквозь тяготение к политике у Луначарского постоянно прорывались другие, не менее пламенные страсти, уже в Швейцарии он понял: «Искусство и религия составляли центр моего внимания». Здесь он был непревзойденным знатоком, но в благородном порыве пытался совместить несовместимое – приладить их к новой политике. Искренне верил, что «музыка после победы революции сделается пролетарской и социалистической». Мечтая «сжечь старые «феодально-буржуазные» инструменты и ноты», мучительно сознавал: «У нас в этой области ничего взамен еще нет».
Нарком решительно вбросил в массы указание Ленина «двинуть вперед искусство как агитационное средство» и в первую очередь украсить здания, заборы и присутственные места революционными надписями. Умел увлечь этим других. Доходило до смешного: когда заведующий Гомельским отделом народного образования Брихничев пригласил наркома в ресторан, тот увидел стены и зеркала, испещренные марксистскими изречениями. «Неплохими по мысли», как оценил их Луначарский. Подобные казусы случались и с монументальной пропагандой, о чем с юмором позднее напишет он сам. Памятники Марксу и Энгельсу москвичи называли фигурами, высовывающимися будто бы из ванны. Скульптура Бакунина была до такой степени страшна, что «даже лошади при виде ее кидаются в сторону».
Отношения со старой интеллигенцией приходилось налаживать революционными методами. Известный дирижер Альберт Коутс решительно заявлял: «Если Луначарский войдет в Мариинский театр во время спектакля, я немедленно кладу свою дирижерскую палочку». Директор театра Зилотти вел себя настолько развязно и нагло, вспоминал Луначарский, что «мне пришлось отдать приказ об его аресте». Угрозы ареста, «24 часа на размышление» стали распространенной формой его вхождения в должность наркома, как и общим атрибутом новой власти.
Вспомнить можно и 1922 год, когда на двух «философских пароходах» из России были высланы лучшие представители интеллигенции, включая философа Ивана Ильина, историка Александра Кизеветтера, социолога Питирима Сорокина. Лев Троцкий тогда объяснял: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Реакции наркома просвещения Луначарского история не зафиксировала, а ведь наука вместе с образованием была прямой зоной его ответственности. Добавим: среди репатриированных был близкий ему еще по гимназии известный философ Николай Бердяев.
Перу Луначарского принадлежит сборник лекций «Религия и просвещение». В описанных им публичных дискуссиях с митрополитом Введенским видна попытка этически достроить марксизм за счет религии. Полемика велась Луначарским остро и убедительно, загоняла оппонентов в тупик. «Непонятно – бог един, но троичен в лицах, – бросал он упреки христианству. – Есть бог и есть сын, но вместе с тем он сам в своем сыне, а сын единосущен отцу. Или один, или три, а одновременно и один, и три – это уже совершенно непонятно». Против выдвинутой им идеи пролетарской религии резко выступил Ленин, после чего Луначарский отказался от своих «заблуждений». Как иначе, слово вождя – закон. Ему не раз пришлось наступать на горло собственной песне, отказываться от убеждений. При наркомовском молчании Луначарского, поначалу защищавшем религию, развернулись гонения на священников, начались разрушения церквей. Как эпилог кампании в декабре 1931 года был взорван храм Христа Спасителя в Москве – святыня Русской православной церкви.
Политика, искусство, религия – душевных увлечений у Луначарского было много, но и была одна нелюбимая обязанность – как нарком просвещения он отвечал еще и за образование. «Школу я презирал. Учился в ней на тройки. Один раз остался на 2‑й год», – честно пишет он. По окончании школы получил «аттестат зрелости (далеко не блестящий), «4» – по поведению». Не будем ставить ему в упрек такое откровение, мало ли двоечников стали министрами, некоторые и неплохими. Цюрихский университет он так и не окончил, что для будущего министра тоже не плюс.
Луначарский красочно описывает картину назначения руководителей революционной России. Таинство рождения власти совершалось «в какой-то комнатушке Смольного, где стулья были забросаны пальто и шапками и где все теснились вокруг плохо освещенного стола. Мне казалось, что выбор часто слишком случаен». Ленин досадливо отмахивался: «Пока… там посмотрим, нужны ответственные люди на все посты; если не пригодятся – сумеем переменить». Прямо по роману братьев Стругацких: «Умные нам не надобны. Надобны верные».
Умные были, и немало, но все насквозь «буржуазные», не принявшие новую власть. Противостояние старых и новых кадров наиболее жестким было, пожалуй, именно в образовании, в Министерстве просвещения дело доходило до физического сопротивления. Всерьез, как вспоминал Луначарский, рассматривался вариант прихватить с собой дюжину красноармейцев и захватить министерство силой, но очень хотелось сговориться по-хорошему. Только спустя неделю «отправились на приступ мрачного дома. Мы прошли по совершенно пустым комнатам в кабинет министра и устроили там первое заседание». Никто из прежних работников не пришел даже сдать дела. История протеста работников дореволюционного Министерства просвещения поучительна, это была защита законной власти дорогой ценой – потерей своей работы.
Образование и просвещение в целом, пишет Луначарский, в то время называли третьим фронтом для обозначения их третьеочередности, отношение к ним было «как к группе нужд и вопросов, могущих подождать», Наркомпрос оставался «забытым комиссариатом». Сам же Луначарский беззаветно отдавался другим неотложным заботам: «В течение почти всей Гражданской войны почти непрерывно отрывался от своего наркомата и в качестве представителя Реввоенсовета ездил на разные фронты». Вместо просвещения масс нарком занимался просвещением армии, отдавая всю власть в образовании «вдохновительнице Наркомпроса», как он называл Надежду Крупскую. Себя нарком просвещения Луначарский определил так: «Большевик, ставший внезапно во главе народного образования».
Как творческая личность, Луначарский придерживался принципа «совершенно вольного самоопределения в самообразовании» и много в нем преуспел. Ленин видел в нем «великолепного оратора-пропагандиста, литератора, партийного публициста, несравненного знатока искусства». Троцкий восхищался Луначарским, который «читал на полдюжине языков, в том числе на двух древних, и обнаруживал столь разностороннюю эрудицию, что ее без труда хватило бы на добрый десяток профессоров». «В ряду замечательных людей-творцов должно быть названо и имя Луначарского», – писал поэт Владимир Маяковский, нередко тусовавшийся с ним на модных вечеринках в окружении молодых театральных звезд. Прожив 58 лет, он написал более двух тысяч статей, 40 пьес, много стихов. «Артистическая натура» – называет его Ленин, и это была правда, в этом был весь Луначарский.
Комментируя творческое наследство Луначарского, издатель 8‑томного собрания его сочинений литературовед Николай Трифонов пишет: «Жизнь этого человека сравнивали со «свечой, зажженной с двух концов». Верно, свеча наркома, отвечающего за образование и культуру, горела с двух сторон, но со стороны образования она лишь тлела». Подтверждение тому воспоминание теоретика советской педагогики, профессора Альберта Пинкевича: «Луначарский всерьез не принимал участия в наших спорах, участвовал в дискуссиях мимоходом».
Революции меняют судьбы, ломают мировоззрения, останавливают естественное развитие мысли и эволюционное движение общества. Луначарский тому пример. Человек высокой культуры, истинный интеллигент, носитель гуманистических убеждений, первоначально сформировавшийся под влиянием умеренной социал-демократии (меньшевиков), переходит в радикальное крыло партии (большевиков). «На Васильевском острове, – вспоминал он, – произошло то большое партийное большевистское собрание, на котором Ленин впервые выступил с речью о необходимости партизанской войны против правительства, об организации троек и пятерок, которые в виде героических групп дезорганизовали бы жизнь государства». Это был переломный момент духовного падения Луначарского, когда он сделал выбор в пользу заговорщиков, психология которых тонко описана в романе Федора Достоевского «Бесы». В том, что это была трудная для него ломка, убеждает прежнее высказывание молодого Луначарского: «Я никогда не мог бы решиться на революционный путь». Все же решился, и не он один. Этим он мучился до конца своих дней, но, даже присоединившись к большевикам, по словам Троцкого, «до конца оставался в их рядах инородной фигурой».
Верность революции и раскаяние в ней, погружение в образование в ущерб тяге к искусству, моральные угрызения совести в обмен на отказ от убеждений – типичный пример раздвоения личности в период революционных потрясений. В воспоминаниях Луначарского можно встретить романтическое описание того счастливого и вместе с тем несчастного периода, «когда мы летали, как Икар, на восковых крыльях нашего революционного энтузиазма. Эти восковые крылья таяли, и мы постепенно снижались до грешной земли». Понять это можно как поражение многие годы вдохновлявших его революционных идей и одновременно признание провала «насыщенной социалистическим духом педагогики марксизма-ленинизма», в которой он себя так и не нашел.
Читайте в следующем номере очерк «От школы учебы к школе труда. Педагогическая утопия Надежды Крупской»
Игорь СМИРНОВ, доктор философских наук, член-корреспондент РАО





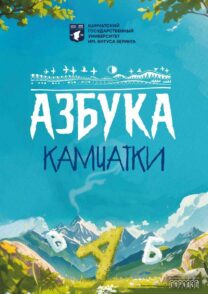

 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии