С Евгением Клюевым – известным русским поэтом, прозаиком, переводчиком, ученым-лингвистом, доктором философии, преподавателем и много еще кем – мы встретились во время его очередного приезда в Россию из Дании, где постоянно живет писатель. Евгений Васильевич охотно согласился на интервью, поскольку «Учительская газета» для Клюева не просто авторитетное издание, для него – это еще история большой дружбы. Поэтому мой первый вопрос был предопределен.

– Уважаемый Евгений Васильевич, знаю, что в 90-е Вы активно сотрудничали с «Учительской газетой». Что осталось в памяти с тех времен? Не исключаю, что эта дружба оставила след в душе, творчестве?
– Еще какой след! Именно таким образом я познакомился с Татьяной Ивановной Матвеевой, чей покойный к тому времени муж, Владимир Федорович Матвеев, возглавлял «Учительскую газету» в один из наиболее сложных периодов ее истории. Владимира Федоровича я, к великому моему сожалению, уже не застал, но Татьяна Ивановна стала мне большим другом – и не просто большим, но одним из главных в моей жизни.
Только очень и очень немногие, единицы, оказали на меня такое воздействие, как Татьяна Ивановна, – человек, которому я поверил абсолютно и с которым бы, закрыв глаза, пошел в огонь и в воду. Мы, кстати, и прошли с ней и огонь, и воду, и даже медные трубы, да… только это, как говорят сказочники, уже другая история. Но, когда я, еще в должности декана факультета независимой журналистики при Университете Российской Академии Образования, уезжал – как теперь выяснилось, навсегда – в Данию , Татьяна Ивановна оказалась единственным человеком, в чьи руки я с легким сердцем мог передать и передал факультет. Факультет с трагической, «перестроечной», судьбой. Но это уже третья история, оставим и ее…
Мне бесконечно приятно, что Вы начали с такого вопроса, спасибо. Пусть за этим нашим разговором и стоит образ Татьяны Ивановны Матвеевой – бесконечно дорогого мне человека. Я, пожалуй, даже не буду перечислять другие следы, оставленные в моей душе «Учительской газетой», хотя, поверьте, их было немало.
– Говорят, что воспоминания об учителях – одни из самых сильных. Вспоминаете ли Вы своих педагогов? О ком думаете чаще всего?
– Разумеется. А учителя у меня были такие, что сама эта тема – учитель и ученик – стала основной чуть ли не во всем, написанном мной. Во всяком случае, в «Книге Теней», в «Андерманире штук», в «Translit» – главных моих романах. И в том, который медленно пишется сейчас, тоже. Но чаще всего – так часто, что почти непрерывно, – думаю я о профессоре Романе Робертовиче Гельгардте – учителе, по чьему лекалу оказалась скроенной вся моя жизнь.

Мне очень грустно, что я во многих отношениях не оправдал его надежд: Роман Робертович, взяв меня в ученики (а этому предшествовала такая… ммм, своего рода церемония, которая чуть ли не напоминала акт посвящения!), рассчитывал, что из меня получится ученый, посвятивший свою жизнь науке, но – увы: только до середины моей теперешней жизни, лет до сорока, меня хватило на честное пребывание «между двух стульев» – лингвистикой и литературой, когда я старался успеть в оба конца одновременно.
Впоследствии я на собственном опыте понял, что правы были мудрые старые китайцы: «На цыпочках трудно стоять долго»… Сегодня я уже не занимаюсь теоретической лингвистикой – только практическим преподаванием языка, датского, и, как бы ни мечтал все-таки живущий во мне лингвист систематизировать мои многочисленные наблюдения, я отодвигаю лингвиста на второй план и снова бросаюсь в ту область, где ничего нельзя систематизировать, – область «изящной словесности»… так и не удается мне перевести это обозначение в пассивный лексический запас, хотя, кроме меня, мало кто, по-моему, употребляет это словосочетание всерьез.
Так вот, Роман Робертович… он, конечно, догадывался, что так и случится, и потому научил меня большему, чем лингвистика, – он научил меня доверять языку и позволять ему вести меня за собой. Романробертовичево «это не человек владеет языком – это язык владеет человеком» стало для меня своего рода кредо, и нет у меня большего удовольствия в жизни, чем смиренно следовать за языком и служить ему, даже не помышляя о том, чтобы заставить его служить мне.
– Когда впервые потянулась «рука к перу, перо к бумаге»? Что послужило импульсом для этого?
– Очень рано. Интересно, кстати, что я помню все мои стихи, написанные в школьном возрасте.
«Зайчик на стене.
Это мне?
Спасибо, очень красиво».
По-моему, тогда я писал лучше – во всяком случае, короче. А импульсы… большинство из них – языкового происхождения: я ведь человек, зачарованный языком. В детстве мне было достаточно услышать «ниточка-иголочка, ти-ти, улети / красную ленточку с собой захвати», чтобы навсегда задуматься: что это за симбиоз – «ниточка-иголочка» и куда и как им предлагается улететь! Знали бы Вы, сколько времени в детстве я посвятил решению этой и подобных загадок…Большинство из них, заметьте, так и не решив – и слава богу. Меня всегда привлекали загадки без разгадок. Поэтому я больше всего на свете люблю стихи. И когда встречаю «играй же на разрыв аорты, с кошачьей головой во рту», я ликую.
– Вы необыкновенно активны. Выходят сборники Ваших произведений, создаются спектакли. Сколько их – сказок, стихов, рассказов написано за все время творчества? Считаете Вы их или нет?
– Да нет… я не считаю ничего: ни текстов, ни денег. Иногда мне кажется, что я, как бы это определить… – проблемы с чтением называются дислексия, проблемы с письмом обозначаются словом «дисграфия», а я, наверное, «дисчисленник»: у меня сложные отношения с числами. При всем моем уважении к математике я терпеть не могу чисел.
Помните Витгенштейна, утверждавшего, по-моему, что в словосочетании «пять красных яблок» самое непостижимое – слово «пять». Короче говоря, я не знаю ни сколько сказок я написал, ни сколько, например, стихов. Когда в издательстве «Время» впервые вышла книжка моих стихотворений на 718 страницах, я всерьез задумывался о том, не послать ли сведения о ней в книгу рекордов Гиннеса – как о самой толстой в мире дебютной книге.
Но и тогда отвращение к числам победило. А что касается активности – это дело прошлое. Теперь я самый медленный писатель в мире: писать становится все труднее и требования к написанному все выше. Я больше никогда не перечитываю моих книг: слишком много возникает претензий – практически по всем поводам.
– Вас называют феноменом литературы абсурда. Так ли это?
– Ну если называют – я не против. Меня еще разными другими словами называют… я за этим никогда особенно не следил, оставляя сей неблагодарный труд литературным критикам и читателям. Наверное, поэтому в сети так много противоречивых сведений обо мне и о том, что я написал: я никогда не вмешиваюсь в обмен мнениями о моих «подвигах», даже если высказывания вступают в противоречия с действительностью или просто друг с другом.
Так что мифов об имярек гораздо больше, чем правды. Есть даже такие горячие люди, которые сразу же записывают любую мою новую книгу – например, последний сборник сказок в издательстве «Самокат», «Сердечко, вырезанное из картона», – в категорию литературного нонсенса. Так что мне совершенно не приходится заботиться о моем литературном имидже: его за меня создают другие. Ну и… спасибо им.

– Мне посчастливилось бывать на Ваших творческих встречах, которые проходят на едином дыхании. Аудитория Вас просто обожает. Вы постоянно провоцируете своих слушателей, читателей на какие-то действия, заставляете думать, анализировать. Что движет Вами в такие моменты: педагогическая жилка или творческий интерес?
– Я теперь редко где выступаю. Близкие мне люди знают, что обстоятельства моей нынешней жизни совсем к этому не располагают, и я сижу себе тихо. А из предложенной Вами альтернативы я, скорее всего, выберу второе: я, видите ли, столько лет проработал преподавателем, что изо всех сил стараюсь не путать жизнь и учебную аудиторию. Так что педагог во мне включается только в специально отведенных для обучения местах. В других обстоятельствах я никого ничему не учу… и очень надеюсь, что мне это удается.
– Вы, помимо всего, художник! Что для вас живопись?
– Ну, художник – это, конечно, сильно сказано… А вообще для меня, как я уже упомянул, все – язык. Стало быть, и живопись – язык. Когда я пытаюсь говорить на этом языке, мне, как я заметил, плохо даются другие языки. Поэтому на протяжении всей моей жизни мне приходилось выбирать: что я в данный момент делаю – пишу и тогда уже не рисую или рисую и тогда уже не пишу.
Как человек пишущий и человек рисующий я вижу то, что меня окружает, по-разному – и совсем на разные вещи обращаю внимание. Это требует полной концентрации на одном из двух языков, в последние годы у меня на такие «перезагрузки» совершенно не было времени. Потому я и не рисовал лет вот уже сколько… много. А ведь был период, когда я сам иллюстрировал все мои книжки. Хороший период.
– Вы считаете себя космополитом, человеком мира?
– Нет, я считаю себя русским, живущим в Дании. Для меня это принципиальная формулировка. Космополиты, по-моему, просто игнорируют различия между местами пребывания, в то время как для меня очень важно различать, что откуда берется. Я отчетливо вижу различия между Россией и Данией, по-разному инкорпорирован в две разные системы – и мне не хотелось бы утратить возможность сопоставлять, сравнивать и – понимать, почему и в чем эти страны не похожи друг на друга. И потом… мне не все равно, где жить.
Я полагаю, что самостоятельный выбор «страны пребывания» – одно из неотъемлемых прав человека… жалко, что люди так редко им пользуются. Невозможно пребывать в стране, чьих современных ценностей ты не разделяешь, даже если у этой страны великое прошлое или великое будущее: в прошлом и будущем мы не живем. Так что, если тебе по той или иной причине неуютно в каком-то определенном месте земного шара, надо, мне кажется, поискать другое. Но, где бы я ни жил, я никогда не перестану быть русским – просто по складу своей личности. В общем, я отнюдь и отнюдь не гражданин мира… сомневаюсь, кстати, что такие и вообще бывают, что бы они сами о себе ни говорили.
– Вы творите не только в разных жанрах (стихи, сказки, проза, драматургия, публицистика, и т.д. и т.п.), но почти во всех видах искусства. Исключение составляют, разве что, музыка и танцы. Ваши приоритеты в творчестве, если они есть?
– Моим единственным приоритетом были и остаются стихи, независимо от того, с какими жанрами меня охотнее всего или чаще всего соотносят читатели. Стихи – это единственное, без чего я не мог бы жить. И, между прочим, сам я думаю, что именно в поэзии я достиг каких-то – более или менее отчетливых – результатов. А самое большое событие в моей жизни за последние годы – это выход во Франции сборника стихов предстоящей (или уже начавшейся?) осенью. Мне бесконечно отрадно, что для них нашлось место в той культуре, которую я всегда воспринимал как одну из наиболее близких мне.
– Учитывая, что Вы русский писатель, а живете и трудитесь в Дании, как Вас сегодня правильней будет назвать: писатель какой страны? Представитель какого языка?
– Я немножко уже говорил об этом, но с удовольствием повторю еще раз: я русский писатель и хотел бы, чтобы меня только так и рассматривали. И если по поводу жанровой принадлежности написанного мной я могу пойти на самые разнообразные уступки, то тут я непреклонен. И дело даже не в том, что я так тесно связан именно с русской культурой… это само собой разумеется, – дело опять же в языке: все мы принадлежим той стране, на языке которой пишем.
Какое бы большое влияние на меня ни оказывали другие языки и как бы хорошо я их ни знал, они остаются для меня языками, которые я называю «выученными». Когда-то, на одной конференции в Гермерсхайме, я выступал с докладом о способах «присвоения» языков и защищал мысль о том, что предельная сосредоточенность на одном языке препятствует доступу к другим. Не знаю, разделяю ли я сейчас эту странную мысль, но по себе вижу, что держу дистанцию по отношению к иностранным языкам, понимая, что возможность совсем уж глубокого погружения в выученный язык – для меня, во всяком случае – исключена.
– Когда-то Вы говорили, что не пишете на датском языке. Это прозвучало на встрече с читателями, прошедшей в 2016 году, где мне посчастливилось присутствовать. Что-то изменилось с тех пор?
– Ничего не изменилось: так и не пишу ни на датском, ни на немецком, ни на английском – и уверен, что даже не начну. О причинах уже сказал, а добавить могу только следующее: у меня, видите ли, нет никаких амбиций… ни вообще, ни по отношению к другим языкам: меня радует, что в моем распоряжении есть несколько языков, которыми я без проблем могу пользоваться во всех случаях жизни, но расширять сферу их приложения мне ни к чему.
Разница между языком, полученным в подарок, и языком выученным приблизительно такая же, как разница между жизнью рыбки в море и жизнью рыбки в аквариуме. Кстати говоря, здесь, в Дании, я много занимался проблемами билингвизма и постоянно общаюсь с билингвами, но верить в существование совершенного билингвизма так и не научился.
– Как вы относитесь к переводам вообще и к своим в частности?
– К переводам я отношусь скептически, а к своим и подавно: дело в том, что я ведь переводил почти только стихи – в основном, абсурдные и в основном из упрямства… дескать, как же вы говорите, что это непереводимо, когда – пожалуйста, вот вам перевод! Поэтому скажу только о переводах стихов: огромнейшие потери, на которые идет переводчик, несоизмеримы для меня с той весьма ограниченной культуртрегерской пользой (прошу заметить, что я тут употребляю слово «культуртрегер» не в общепринятом, ироническом, значении), какую несет в себе перевод.
В том-то и состоит уникальность поэзии как вида искусства и ее принципиальное отличие от всех других видов: переводима музыка, переводима живопись, а вот поэзия, извините, непереводима! И, хоть ты тут умри над своим переводом, он в лучшем случае остается пересказом: поэтическое событие неповторимо в иной языковой среде.

– Радует ли вас репутация «языкового писателя»?
– Очень. Радует настолько, что я бы не хотел иметь никакой другой. И интересуют меня только и исключительно языковые писатели… иногда мне кажется, что я, может быть и не писатель никакой, а просто маньяк! Тексты, в которых я не вижу языковой сверхзадачи, не то чтобы все до одного оставляли меня равнодушным, нет… но для меня сегодняшнего текст – прежде всего язык, в идеальном случае – самотворящийся.
Меня даже удивляет, что кто-то может не разделять этого моего убеждения – особенно учитывая то, что мы без устали цитируем «в начале было слово»! И для меня самого нет большего удовольствия, чем следовать за причудами и капризами языка – конечно, когда это получается… жаль, что получается далеко не всегда.
– «Поэзия должна быть глуповата» – как вы относитесь к этой фразе Пушкина?
– Как к шутке, которую многие принимают всерьез. Поэзия никому ничего не должна: она «свободная стихия». Хотя… на фоне этого вопроса мне вспоминается школьное жанровое обозначение «философская лирика Пушкина».
– Можно ли сравнивать стихи (сложные) Бродского, Пастернака, Арсения Тарковского, Клюева с (понятными, вроде бы простыми) стихами Есенина, Блока, Заболоцкого, того же Пушкина?
– Спасибо за впечатляющий ряд имен – конечно, если Вы имели в виду «этого» Клюева… Сравнивать же стихи – ничьи с ничьими – я бы не стал, причем ни по каким признакам. Не стал бы и группировать их по категориям – может быть, только жанровым. Я давно привык к мысли, что поэтическое высказывание уникально и создает свои законы.
А что касается «простоты и сложности»… по-моему, в поэзии эти критерии не работают. Если стихотворение кажется «сложным» или «простым», это, скорее всего, стихотворение, которое лучше не читать, поскольку чтение, сопровождающееся постоянной оценкой читаемого, мучительно. Тут на память приходит Бартовское «текст-удовольствие», апеллирующее к состоянию растворенности в тексте: растворенность исключает оценку («слишком просто»/«слишком сложно») и вообще закрывает доступ к анализу, более того – к аналитизму как таковому.
– Вы много пишете? А удается ли читать коллег по творческому цеху? Если да, то что прочитали интересного за последнее время?
– Увы. На чтение остается все меньше времени … и, к тому же, так часто приходится разочаровываться, что это отбивает охоту к новым знакомствам. Проблема тут, скорее всего, в том, что мои представления о поэзии – точнее, о том наборе признаков, который определяет для меня поэзию, – увы (или ура), не совпадают с представлениями современных пишущих… да и читающих. Конечно, можно еще раз старомодно поспорить, до какой степени поэтическому тексту необходим классический инструментарий – рифма, размер, строфика и т.п. (правда, я едва ли уже соглашусь участвовать в этом споре), – но есть и то, что на мой взгляд, бесспорно: из поэзии уходит музыка, музыкальная составляющая.
Или – можно сформулировать и по-другому – пути поэзии и музыки постепенно расходятся. Не знаю (знаю!), как для других, но для меня (прежде всего – читателя, бог с ним, с писателем) это по-настоящему большое несчастье. Поэтическое слово становится либо изобразительным, либо нарративным и ищет новых спутников, отказываясь от того, что было так свойственно ему в прошлом, – музыкальность: все эти рефрены, контрапункты, вариации… И, честно говоря, я чувствую себя чужим в компании рассказчиков (и показчиков), но – пока не сдаюсь.
– Ваши пожелания читателям сетевого издания «Учительская газета».
– Мои пожелания… Я пожелаю им понимания одной совершенно необходимой в жизни вещи (которую я сформулировал в книге «Учителя всякой всячины» – пардон за самоцитирование, но сейчас, на ходу, мне трудно найти другую формулировку):
… что за один всего лишь миг
устаревают буквы книг,
меняется порядок чисел –
и ты, беспечный ученик,
вдруг сам становишься – учитель.
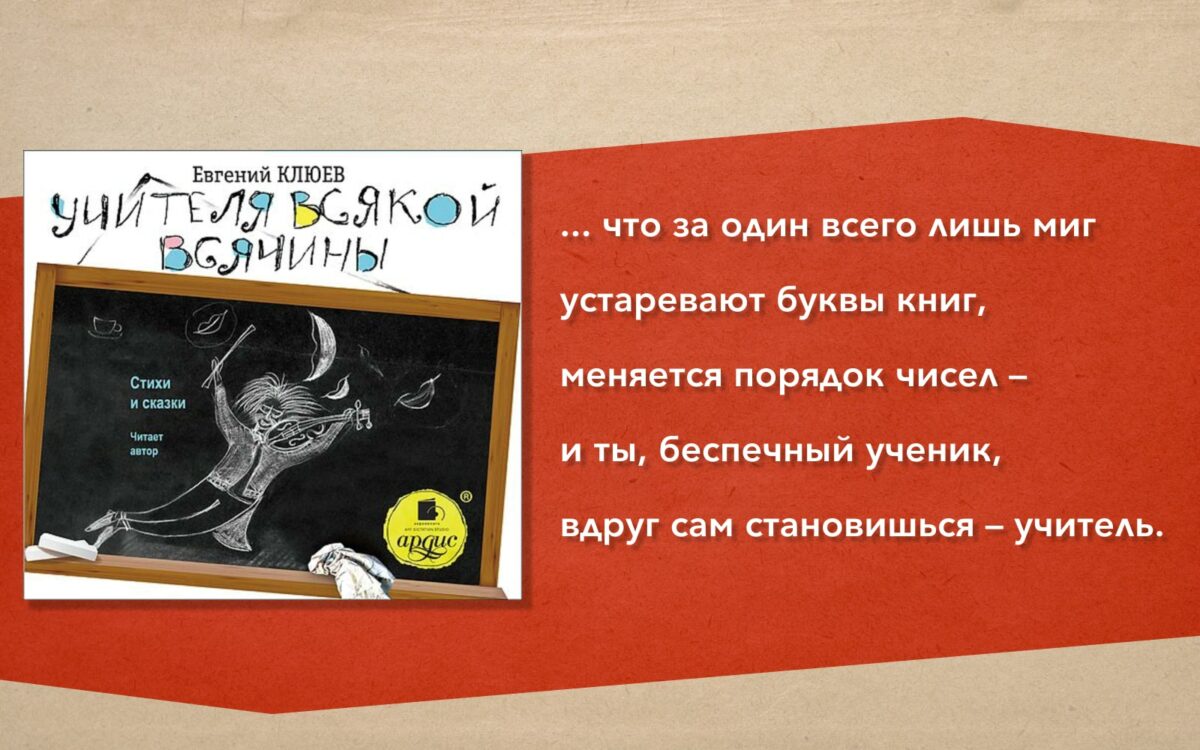
– Евгений Васильевич, огромное спасибо за интервью, удачи Вам, здоровья, дальнейших творческих свершений!
– И Вам спасибо! До новых встреч!










 Выбор читателей
Выбор читателей



Комментарии