Ни утром, ни днем, ни ночью город по-настоящему не разглядеть. Утро – это всемогущество синевы, восторг открытых слуховых окон, колющих глаза безупречным и завершенным небесам, возмутительный блеск и мальчишеское расточительство солнца, снизу доверху засыпающего площади мнимым градом камней, громя зеркала и топя в фонтанах осколки света.
День – пространство наших стремлений и слабостей, на его шахматной доске другим не уместиться. Ночь – израненное чудо: праздник обессиленных фонарей, пора, когда осязаемая реальность становится не такой навязчивой, не такой давящей. А заря – воплощенная низость и коварство: она по-заговорщицки крадется исподтишка, чтобы опять воздвигнуть то, что десять часов назад разрушила, и в который раз прочерчивает улицы, отсекает головы фонарей и раскрашивает памятные по вчерашнему вечеру места, чтобы мы – с тем же ярмом города на шее и грузом нескончаемого дня на плечах – смирились с безудержной окончательностью ее триумфа и безропотно предали душу новому дню.
Остается вечер. Это драматический спор, препирательство видимого мира и темноты: он как бы закрадывается, просачивается за косяк вещей. Он нас изматывает, подтачивает, истощает, но в противоборстве с вечером к улицам возвращается человеческое самоощущение, трагизм воли, добивающейся постоянства во времени, суть которого – перемена. Это самая беспокойная пора суток, этим и близкая каждому из нас, тоже не находящим покоя. Вечер подставляет потоку наших мыслей послушный скат, и именно благодаря вечерам в нас вливается город.
Вопреки минутному унижению, в которое нас удается ввергнуть нескольким высотным домам, ничего устремленного вверх в Буэнос-Айресе нет. Буэнос-Айрес – не из тех вздыбленных, тянущихся к небу городов, которые нарушают божественную чистоту выплеском усердных башен или закопченным сбродом не знающих отдыха труб. Наоборот, он – точная копия окружающей равнины, смиренная ровность которой продолжена прямизной улиц и крыш. Вертикальные линии у нас побеждены горизонтальными. Дали – отрешенные одноэтажные домики по обеим сторонам километров булыжника и асфальта – слишком воздушны для настоящих. Каждый перекресток – начало четырех бесконечных прямых. Глубокой ночью посреди города, упрощенного непроницаемой темнотой и нашим жалобным изнеможением, взгляд иногда захватывают поперечные, уходящие в беспредельность улицы, когда замираешь, пригвожденный или, лучше сказать, пронзенный, чуть ли не навылет простреленный открывшейся перспективой. И эти сумерки вокруг! Бывают бескрайние закаты, которые бросают вызов глубине улиц и едва умещаются в небо. Чтобы они хлестнули по глазам всей своей крестной мукой, нужно добраться до предместий, которым уже нечего противопоставить пампе, кроме нищеты. Перед здешней минутной заминкой гигантского города, где последние дома в их безрассудной отваге походят на задиристых побирушек перед огромностью абсолютной и все же подточенной исподволь равнины, закаты проплывают царственно, как чудесные барки, уходящие мачтами в небеса. Жителям гор не понять этих закатов, пугающих, как порывы плоти, исступленных, как гитара.
Буэнос-айресские дома с красной плиткой или цинком крыш, с этими сиротами внезапных башенок либо лихих козырьков над входом, похожие на прирученных птиц, которым подрезали крылья. Улицы Буэнос-Айреса, которые уводит в глубину проходящая шарманка, жаркое излияние души. Улицы с тонким и сладким привкусом воспоминаний, улицы, где бродит память о будущем по имени надежда, неразлучные, неизгладимые улицы моей любви. Улицы, которые без лишних слов ладят с нашей высокой печалью – здесь родиться. Улицы и дома моего города, да не оставит меня и впредь их широта и сердечность.
Хорхе Луис БОРХЕС. Из книги «Страсть к Буэнос-Айресу»
Фото Альдо СЕССА






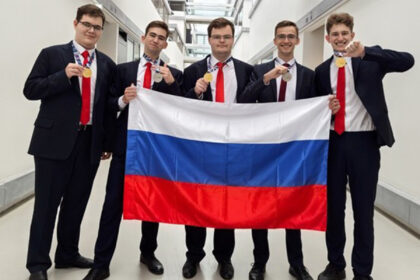
 Выбор читателей
Выбор читателей







Комментарии