Неужели норма способна измениться так быстро? Кто создает норму? И кому выгодно ее понижать до невозможно низкого уровня? Можем ли мы, учителя и близкие к педагогике люди, остановить экспансию хамства, спасти нашу великую русскую речь?

Все, наверняка, помнят, что герой булгаковской повести «Собачье сердце» профессор Преображенский, начиная свои эксперименты, не подозревал об их последствиях. Он и предположить не мог, что его безымянный подопытный гибрид вместе с дивным именем получит все гражданские права, в том числе право диктовать свою волю профессору и его ассистенту.
Я неслучайно вспомнила хорошо известный литературный сюжет. История неслыханного возвышения Полиграфа Полиграфовича должна была стать предупреждением образованному сословью, но почему-то не стала. Спустя годы почти то же самое повторилось в отношении мата. Мои коллеги, филологи, проявившие к нецензурным словам и оборотам «научный» интерес, а вслед за ними ищущая острых ощущений творческая интеллигенция (некоторая ее часть) сделали все, чтобы легализовать бранную лексику, наделить ее всеми возможными правами и свободами, поэтому теперь она широко шагает не только по районам и кварталам, но даже по проспектам и площадям. Сегодня мат комфортно чувствует себя в общественном транспорте, в театре, кино и даже в литературе. Кое-кто из деятелей «культуры», модных писателей и журналистов, вместо того, чтобы указать новоявленному Шарикову на коврик возле двери, интеллигентно подвинулись, уступив мату почетное место: «Как же без него, родимого, ведь он украшение русской речи» – и такое можно услышать от вполне образованных с виду людей. Последним оплотом – единственной территорией, где мат не получил еще официальную прописку, – остается школа, но и она, по косвенным признакам, понемногу сдает позиции.
Чтобы мои выводы не показались голословными, перескажу разговор, участницей которого стала совсем недавно. То, что я услышала от вчерашних выпускников, не только огорчило, но и заставило задуматься.
В пригородном автобусе, курсирующем между райцентром и деревней, услышать можно много чего. Полушепотом здесь не принято разговаривать, поэтому как ни стараешься не вслушиваться, все равно становишься невольным, хотя и бессловесным, участником беседы.
…Дело было под вечер. Два молодых человека за моей спиной громко, без всякого стеснения, обсуждали предстоящую вечеринку, на которую направлялись. Обсудив достоинства и недостатки приглашенных на чью-то квартиру девушек, мальчики перешли к обсуждению горячительного. Было понятно, что они собираются выпить изрядно – речь шла лишь о 40-градусных напитках. У каждого за плечами был опыт, которым они щедро делились друг с другом и – заодно – со всеми пассажирами.
– Мне батя сказал, что лучше не запивать, а заедать. А запивать плохо (произнесено было другое слово, но смысл тот же).
– И мне мамка тоже сказала, что запивать не надо. Заедать, и лучше лимоном. Он помогает расщеплять алкоголь. А то с первой рюмки развезет и больше ничего не захочешь.
– Давай сейчас зайдем лимонов купить, мы много чего хотим, – загоготали парни.
Ну и что такого? – спросите вы. Ничего, конечно, особенного, кроме того, что 50 процентов слов диалога были матерными. Взрослые пассажиры, находившиеся в автобусе, отворачивали взгляд и брезгливо поджимали губы. Всем было некомфортно, стыдно, но призвать парней соблюдать приличия никто не рискнул.
Кто сегодня способен сделать замечание незнакомым людям, если в общественном месте они ведут себя неподобающе? По моим наблюдениям, на это отваживаются только учителя, причем учителя в возрасте. Профессиональный долг не дает им права промолчать. Иногда – это видно – и педагогу хочется отсидеться в сторонке, не обращать на себя внимания, но угрызения совести берут верх. Я тоже в прошлом учитель, поэтому не могу, как бы ни хотела, оставаться равнодушным свидетелем попрания норм морали. Особенно если происходит оно на глазах детей и стариков. Как можно их не защитить от хамства?
Спокойным, но твердым тоном я сказала мальчикам, что слушать их мне, учителю, крайне неприятно. И мне, и остальным пассажирам неинтересны подробности их жизни, тем более в таком нецензурном пересказе. Один, как оказалось, помладше и поскромнее, извинился и притих, явно стушевавшись, а второй решил образованность свою показать и вступил в дискуссию. Поскольку я ее не поддержала, он перешел в режим монолога. Я передаю этот монолог очень близко к тексту, опуская лишь нецензурную лексику (ее почти и не было в этой части, то есть молодой человек, оказывается, вполне может обходиться без мата).
– А что вы хотите? Провинция. Здесь все так говорят. А вы в какой школе работаете?
Я ответила, что живу и работаю в Нижнем.
– А в Нижнем еще больше мата услышишь, – продолжал он (как выяснилось, молодой человек один год отучился в нижегородском вузе. И если допустить, что общался он в основном с такими же, как сам, то вывод, им сделанный, неудивителен. Я лишь подумала об этом, но ничего не сказала: спорить с глупым – самому поглупеть).
– А между прочим, – гордо выступал мой оппонент, стараясь, чтобы его услышали все присутствующие в автобусе, – мат делает речь богаче и выразительнее, ярче. Без мата она пресна и неинтересна. У Пушкина, например, во многих стихах мат. И он не считал нужным заменять его. А у Лермонтова – еще больше матерных стихов. И Горький тоже уважал мат.
Остапа несло. Я уже напугалась, что парень начнет перечислять всех русских классиков, но слава Богу, он перешел к другому аспекту обсуждаемой темы.
– Неправильно осуждать тех, кто матерится. Нужно к мату относиться так же, как к алкоголю. Не пьешь сам – не пей, но не осуждай тех, кто пьет. Хочешь говорить без мата – твое дело. Но другим не мешай…
Парень и дальше бы убежденно защищал свое право публично материться, но автобус подъехал к остановке. Молодые люди вышли, весь автобус облегченно вздохнул. На душе, тем не менее, было тошно.
Признаюсь, такой апологии мата мне еще не приходилось слышать. Дома я рассказала об услышанном. «Откуда он взял эту информацию – про Пушкина, Лермонтова и Горького? – горячилась я. – Ведь если б мальчик был знатоком поэзии и сам читал классиков, то обратил бы внимание совсем на другие стихи, а не на те – с пропусками и многоточиями, которые авторы не включили в собрание сочинений. Значит, не читал, не слышал и не знает великих произведений. Искать мусор посреди гор жемчуга – занятие, конечно, на любителя».
Взрослая дочь объяснила: пропаганда мата идет в соцсетях. Там же цитируют классиков. Словесники ни при чем. Но я не согласилась: выборкой и цитированием занимаются люди осведомленные, читающие, получившие информацию от специалистов. От кого-то они узнали о существовании таких стихов, где-то услышали мнение о «ценности» мата. Еще раз повторю: не читая, сделать выборку невозможно. То есть кто-то умный и начитанный провел специальное исследование и результаты пустил в «массы». А нечитающие «массы» сделали свои выводы: если Пушкин употреблял, то чем я хуже?
Стоит ли удивляться тому, что сорняки раньше всходят и растут гораздо быстрее культурных растений? Наверное, никто из филологов, бросивших «научное» семя, не предполагал, что словесный пырей ползучий очень скоро заполнит все пространство и не даст расти добрым всходам, над которыми трудились учителя.
Что делать, если мальчики, одиннадцать лет посещавшие школу и слышавшие от педагогов только хорошее, с радостью впитывают гадость? Неужели школа бессильна и все определяет только среда? Кто может воспитать потребность уважать себя и ближнего, бережно относиться к себе и окружающим? Она всегда проявляется в речи, в общении.
В деревне, где я живу летом, мат уже давно стал обиходной речью. Матом не ругаются, матом говорят: жены с мужьями, родители с детьми, кондукторы с водителями, продавцы с покупателями – это норма. Поколение, использующее бранную лексику лишь в особых случаях, поредело и постепенно уходит из жизни. Я заметила: чем моложе человек, тем активнее он использует мат. Пятилетняя девочка, которая приходит в гости к бабушке, моей соседке, использует мат наряду с нейтральной лексикой. Семья, в которой она растет, вполне благополучная, обычная, можно сказать, среднестатистическая. Речь девочки шокировала меня поначалу, но потом я поняла – для малышки нет никакой разницы между цензурными и нецензурными словами. То, что для меня «эмоционально окрашено» – для нее обычно. С ней так говорят с колыбели.
Мои бабушка и дедушка тоже всю жизнь жили в маленьком провинциальном городке. Они были самыми простыми, рядовыми гражданами, скромными тружениками. В каникулы я жила у них подолгу, по неделе и месяцу. Не слышала мата ни от них, ни от других своих родственников. Дедушка, выпив, иногда готов был прибегнуть к непечатным выражениям, но бабушка шикала на него, поднося палец к губам, глазами указывая на внуков: «Как можно при детях!», и он ее слушался, замолкал на полуслове. Нас берегли как тепличные растения. Если на улице в нашем присутствии кто-то из соседей громко выяснял отношения (именно ссорился), в сердцах произнося тяжелые, площадные ругательства, на нас, детей, это производило впечатление пушечной пальбы. У меня внутри все содрогалось. У моих сестер и братьев тоже (кстати, с возрастом реакция на мат осталась той же). Бабушка, зная об этом, старалась увести нас в дом, отвлечь. Удивительно ли, что никто из нас, давно выросших и постаревших, не произносит матерных слов даже в самые стрессовые моменты. Я не смогла бы этого сделать ни при каких обстоятельствах, для меня это жесткое табу – и на сознательном и на подсознательном уровне. И я вовсе не исключение. Такое отношение к мату в годы моего становления тоже было нормой – вот о чем я пишу. Прошло всего 30 лет.
Неужели норма способна измениться так быстро? Кто создает норму? И кому выгодно ее понижать до невозможно низкого уровня?
Можем ли мы, учителя и близкие к педагогике люди, остановить экспансию хамства, спасти нашу великую русскую речь? Или нам остается смириться и опустить руки?
Я прекрасно знаю, что запретительные меры мало пользы приносят (хотя ужесточение ответственности за употребление мата в общественных местах я бы только приветствовала), знаю, что нужно менять общественное сознание. Но как это сделать, честно скажу, не знаю.
Приглашаю всех, кого беспокоит заявленная тема, вместе ее обсудить.
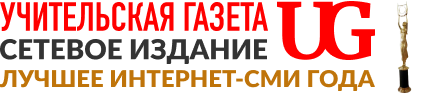










 Выбор читателей
Выбор читателей


Комментарии